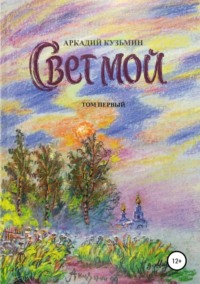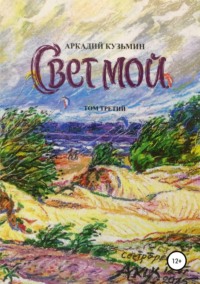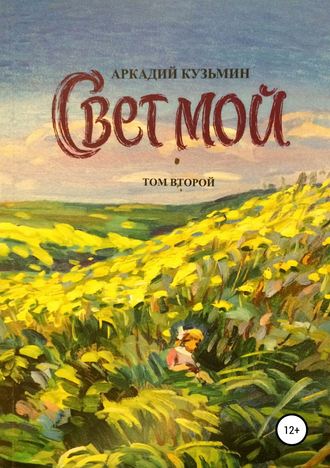 полная версия
полная версияСвет мой. Том 2
И тогда его, успешного, солдата верного и бесконфликтного, запевалу ротного, заняли дневальством – допускали здесь меньшее хождение. Да впустую, насмех все: на нем-то, и дневалившим, даже сапоги резиновые скоро попросту плющились… гармошкой… Ох, докучлива напасть!
III
Соответствуй своему предназначению. Должное и сбудется. Должно!
Наивно думавший так Иливицкий вовсе не сторонился людского общения. Ни с кем. Но резонный страж-голос внутренний нашептывал ему: «Оставь что-то несущественное, кроме рисовательных упражнений…» А легко ли, кувыркаясь сам по себе, преуспеть-таки в книжной графике – в той сфере книгоиздания, где можно было бы иметь заработок, чтобы нормально жить? Легко ли – потерявши лучшие годы молодые, отдав гражданский долг мужской пятилетним служением на флоте? И, что чудно, он-то Ефим, еще карабкался по круче крутой – наперекор всему; и еще в натурный класс похаживал – высевал карандашные наброски; и теперь же здравый практицизм диктовал ему: делай нужное и не траться на незначимые частности. Хотя он, лев, в душе не прочь был бы и принять некие ублажительные послабления или преподношения чьи-нибудь (просто ни за что) – он не отказался бы от того, как не отказывался в гостях от вкусного обеда.
Уж бывало, что на взгляд казалось ему: он с легкостью может проиллюстрировать любой сюжет – не хуже именитых мастеров; однако он бесплодно утопал, когда пытался мастерски прорисовать что-либо подобное без подражания – по-своему. Тут он точно в бездонную прорубь погружался весь с головой и тем отчетливей видел, чувствовал, что у него не получалось все так идеально, как хотелось бы. Мысль его блуждала в поисках выхода. И нередко образовывался какой-то преградительный затор, вызывавший у него душевное затмение, вплоть до остервенения. До проклятий столь погубительной неволюшке. Неотвязно…
Но Ефим, заряженный тщеславным стремлением, добивался в конце-концов своей цели – доводил сюжетные рисунки до ожидаемого им самим завершения. Вполне логически убедительного для него. Оттого и дрожал в его глазах лихорадочный блеск, и толпились в голове влекущие мелодии; он бывал рассеянным, говорил громко и невпопад и краснел при этом виновато. По-мальчишески.
Долгая флотская служба приучила его к бережению времени. Отсюда он унаследовал самовнушенное опасение быть обязанным в чем-то женщине – будущей жене и так отчасти лишиться необходимой творческой свободы. Когда абсолютно ясно: что-либо одно должно главенствовать в жизни, чтобы успешней священнодействовать в своем ремесле; второстепенная роль в доме не каждой претендентке подходит – но спасительна для любви. А соблазн отступиться велик: скольких умов пугала кабала чего-то избранного…
С давней знакомой-театралкой Милой Ефим расстался без сожаления и ее обид: у них обоих не было нужды сохранять дальше их вяло текущие отношения. Она-то нашла уважительной причиной их проявившееся разномыслие. Хотя, по правде, ее пока грело теплое родительское гнездышко, и она никуда не рвалась. Ведь ее за домоседство подружка Оля не зря обзывала в шутку маленькой носорочихой. Вскоре Ефиму уклончиво отказала от своего общества уже устремленная Алла, библиограф, которую он привечал по-серьезному. Когда же он заухаживал за Настей, ее негласной конкуренткой, – Алла вдруг, будто опомнившись, предложила ему поехать вместе предстоящим летом на юг, чем такой определенностью – его смутила. Он бы согласился – пошел на это, но чувство мужской порядочности – перед Настей – перевесило; он не мог стать шалопаем, флюгером. В замешательстве он, немало подумав о предложенном девичьем варианте, даже не ответил сразу; ему не хватило духу прямо отказать – на него словно столбняк нашел. И он поругивал потом себя уж за эту несвойственную ему непорядочность, трусость.
Что не усложняло, Настя, узнав о скорой поездке Ефима под Севастополь, обещала подъехать на две недельки из Ялты; такое ее решение вполне соответствовало его творческим планам, не вредило им. Главное, Настя не ставила никаких условий в их взаимоотношениях; более того, отнекивалась от всякой дружбы, проявлений симпатий, амуров не заводила; просто хотела быть на первых порах вроде напарницы, не возлюбленной, не ущемленной в чем-либо, чтоб опрометчиво не затеряться среди стойбища троглодитов, говорила она. И добавила доверчиво, с лукавинкой:
– Ты будешь, Ефим, моим подстраховщиком. Хорошо?
Сейчас, вспомнив о том, он слышно вздохнул от неизвестности, хотя и предугадывал всякое стихийное развитие. Во всем.
IV
Была прелестная картинка.
Козленочек белый, с черной звездочкой на лбу, острые рожки, был на привязи; грациозно поднимаясь на своих задних ножках, он ставил передние на ствол и позволял детям играть с собой, если те подходили к нему; кто из них, умиляясь, совал ему в рот кусочек булки или зеленый листок, а кто гладил его ласково. И мама козленка – коза белая, небодачая (их неспроста и привязывали здесь, на зеленом пустыре, на пути идущих туда-сюда – в магазин, на рынок, на пляж или на базу отдыха – приезжих) также тянулась привычно к детским угощениям.
Надя с вспыхнувшим желанием:
– Папа, я тоже покормлю! – сорвала веточки лютиков с мелкими желтыми венчиками. И, подойдя к козленку, поднесла к его губам одну веточку: – Вот ешь, пожалуйста! Ешь!
Козленочек понюхал и, аккуратно взяв губами из ее рук растение, начал жевать его к ее удовольствию. Она обрадованно-суетливо стала отделять еще пучок, с тем, чтобы угостить теперь и козу. Но та нетерпеливо, подступив к Наде и пригнув голову, легонько лбом толкнула ее в грудь. Девочка села на траву и от неожиданности и от обиды, выронив букет, хотела заплакать; губы уже надула, как это бывает у детей: она очень обиделась на непонятливую козу. Сбивчиво жаловалась подскочившему и уводившему ее отсюда Константину, отцу:
– Смотрит так на меня… Человечьими глазами… А сама бодается… Почему? Не любит?
– Доченька, ты, понимаешь, слишком приблизилась к козленкиной маме, – старался ей понятней объяснить Костя. – А она стережет и защищает козленка от всех мальчишек. И я говорил тебе: не подходи близко к ней – у нее ведь рожки длинные… И потом: ты не сразу отдала всю еду, а она хотела есть. Для того, чтобы было у нее молочко; молочко для козленочка и для тебя – ты пьешь его. Коза, видно, не думала тебя обидеть, нет, – она просто не сдержалась; она не могла сказать тебе по-человечески: давай побыстрей, и все.
И Надя постепенно, пока они шли, согласилась с отцом в том, что эта коза все-таки, должно, неплохая, раз стережет козленка. И она, Надя, не будет больше сердиться на нее.
– Ладно, козочка. Тебе ж не больно было…
И Ефиму ладным показалось столь спокойно-бодрое отцовское рассуждение о совместимых чувствах дочери и животного – нагляднейший урок для ребенка, кому важно все объяснить, не одни зычные команды.
– А теперь купим, дочка, открыточку. – Костя подшагнул к газетному киоску. – Поздравим маму с днем рождения. Дайте нам ту… золотоносную…
– Да неужто?! – Ефим ревностно перехватил из его рук яркую декоративную открытку. – Ну, поглядим… – Перевернул ее и вслух прочел мелко напечатанный текст на оборотке: «Художник А.Кашин». Это же мой друг нарисовал! В какую даль дошла! Из Ленинграда!… Тираж триста тысяч!
– Опупеть, Фима, можно от того, что мы встретились тут так. Открытка-то эта Антона, родного брата жинки моей – Тани. Вот фантастика. И фартовая такая, – сказал Костя. – А сейчас пошлем ее в Москву. – И добавил: – Оленя бы еще сюда – было б еще краше, сказочней. Не считаешь?..
«Что, если спортретировать их? – Замедлил шаг Ефим, сообразуясь уже со сверкнувшей мыслью-открытием: – Для портретной галереи, может быть…
Почти завсегда эта группа старожилов-мужчин, южан, паслась-кучковалась в скверике, подле продуктового магазина; все они, какие-то одинаково потертые, хоть по цвету и телосложению и разные, – кудлатые, немытые и завалявшиеся, с мутными глазами, топтались, разговаривая или споря, либо воссиживали на скамьях. И вечно были преисполнены какой-то заботой: озабоченно торговались о чем-то между собой. И суетливы. И обидчивы чрезвычайно – повышали свои голоса, будто бы решали самые важные дела, стараясь выглядеть значительней в собственных глазах. Хотя, известно, занимались промышлением поживы. Оттого они и прятались привычно под кустами, в стоячей тени, подальше от глаз прохожих, натыкавшихся на них и обходящих их, как зачумленных чудиков.
– Ты чего затормозил? – спросил Костя. – Али загляделся на халявщиков? Товар-пересортица…
– Вроде б высмотрел добычу: подходящие образы, характеры, типы… – признался Ефим. – Если рублики дам, то усажу кого-нибудь – и возьму на карандаш… А что? Да заодно бы и бабулек, что на площади дневают… Может, может быть…
– Эх, был бы, Фима, люкс, если бы зарисовать вживую хотя б нашенских трудяг-мотыльщиков, – оживился Костя. – Такая работящая братва, не хилая, не симулянтская; свойская, открытая, не предающая. Не попрошайствует. И везет ей на приключения. А уж какой прохиндей-артист Партизан (Пашку метко так прозвали) и какие фокусы он порой откалывает – ой, надорвешь живот от смехоты!.. Вот бы в книжке рассказать о похождениях таких – все бы почитали и повеселились… Нет писателей хороших. Все пропали…
– Ну, собратьев пишущих и рисующих, и музицирующих, и танцующих и прочих «щих» нынче-то не счесть – аж в глазах рябит, – возразил Ефим, смеясь, тронутый серьезной детскостью возникавших у Кости желаний. – И все они маются при своих же интересах. Но виновата, во-первых, клиника у них, то есть психика, – она не безупречна, не безгрешна: кого на какое горяченькое тянет… Кто что ищет – и находит…
– А еще что?
– А, во-вторых, технический настрой тянет и художника за собой; а тот бессознательно (и с радостью подчас) теряет профессиональные навыки – не только в технике исполнения, отнюдь. Хватается за первый же инаковый шаблон самовыражения (а есть ли оно вообще?). Мельчит и халтурит второпях. Так удобнее приспособиться к вкусам заказчиков. Неважно, что нет уже высокой планки для подражания. И так сойдет. Москва устоит, хоть ты тресни.
– Да Москва все пережует. И всех переживет. Город мой родной.
– Сейчас проза разветвилась: есть военная, деревенская, лагерная, женская… Графики не приемлят живопись: неумеренные краски; живописцы говорят, что им необязательно знать основы рисунка; авангардисты вообще не признают ничего, никаких художественных канонов. Эгоисты по сути своей, но высочайшего мнения о себе, своих новоделках, они рыкают на родителей, как в худой семье; ты, тупица, мол, молчи в тряпочку, не возникай со своим старьем… Ну, извини, не буду больше пустословить, – озлился на себя Ефим. – Нынче пока серые, ловкие на кону…
– Я лишь понимаю, Фима, – сказал Костя: – те, кто у кормушки кормятся, сами никому не отдадут власть большую. Я понаблюдал. У нас-то (по соседству) и завелся один романист – Романюк, бывший зэк, отсидел в тюряге срок за спекуляцию, как старьевщик. И вот после заделался писателем. Книжку, какую написал о себе, обещал нам подарить, только ее напечатают. Завел темные очки, курительную трубку и овчарку. Впридачу – кралю молоденькую, пройдошливую, видать, кто спуску-то ему не даст ни в каком житейском дележе. А то очевидно…
– Что ж, воля вольному, – заметил только Ефим, как сейчас же самому подумалось: «Я вот тоже сумасшествую с женитьбой-неженитьбой – живу еще с прикидкой этой… Трепыхаюсь…»
V
Изрядно пропекшийся толстяк в панамке, потирая руки, мшистой грудью навис над Ефимом, который бегло зарисовывал в альбом фигурки пляжников в различных положениях и не сразу обратил внимание на того внимание, пробасил:
– Извини, друг, намедни я усек, что ты держишь шахматишки… Одолжи-ка их… Очень просим… Малек поквитаемся, сидячи рядком…
– И возблаженствуем. – Его товарищ был поджарей телом, востроглазей и, пожалуй, милей на вид. – На этом лежбище мозги плавятся – нужно их шевелить… обдумками…
Ефим молча достал из сумки и протянул коробушку достойным просителям. И после продолжил дорисовку лежачих и стоячих загорающих – в интересных ракурсах, – что могло ему пригодиться графически. Здесь, на благословенной южной природе, он чувствовал в себе азарт открывателя естественных натурщиков, наслаждавшихся своим отдыхом. Он увлеченно делал наброски, и до него доходил урывками разговор этих усевшихся поблизости шахматистов – не пустой, заинтересованный.
– Знаешь, Сергей – говорил толстяк, – мой тесть, признанный столичный дорожник, сокрушался: «Нынче молодые рвутся к власти, а когда ее получают, то не знают, как и что сделать умней. Кишка тонка. Потому и мало толковых спецов. Если мы, битые бойцы, специалисты, провинимся в чем-то – никакой пощады нам не будет; а молодым эгоистам все прощается, они не устают нахальничать и скарбезничать в открытую. Во вред стабильности».
– Что приходит, то и уходит: жизнь, Михайлыч, – успокаивал того его товарищ. – Да неизвестно еще, к чему она позовет их, наших деток.
– О да! Согласен. Сверх жизни нам ничто не вместить.
– Ну, а если она позовет, – мы станем рядом, Михайлыч.
– Если к тому времени не развалимся окончательно.
– Ой, не говори! – И оба они засмеялись.
– Суть не в этом, пожалуй, Сергей. – И вновь они рассмеялись.
– В чем же?
– В том, что наши вундеркинды с иронией, а то и с презрением относятся к делам и подвигам своих отцов-консерваторов; им кажется, что они-то стократ революционней, умней, сообразительней, ловчей, предприимчивей. И никакие родительские резоны им не нужны: отметают с ходу их, как балласт, не успеешь и рта раскрыть.
– А разве не с бациллой ироничности, Михайлыч, воспринимаем сами мы все прошлое? Проснись!.. Извечна стервозность людская. Она-то не дремлет, отнюдь!.. Везде прет! Богатый разденет бедного до нога.
– Кто-то из великих поэтов точно сказал: кто умеет делать, тот делает сам, а кто не умеет, тот учит других, как нужно делать.
– Я, знаешь, убежден, что мы, люди, поэтому есть отставшие братья по разуму в гонке выживания. Человеческие прапрародители давным-давно скрылись от своих молодых сородичей-извергов в океанские глубины и еще куда-то навсегда; никакие это не пришельцы космические погуливают на тарелках летающих и вычерчивают на полях круги – забавничают, и при этом избегают нас, как чертей неисправимых. Право…
– Фантастично мыслишь. Обоснуй… версию… в статье…
– Бесперспективно, скажут: парень сбрендил. Вопреки обоснованной периодичности… Куда ж денешь хотя бы бронзовый век? И что нам говорят черепки и кости наших предков, раскопанных на городищах?
– Действительно, наука собирает… вернее, изучает антропогенез…
– Но, посуди сам, Михайлыч, если сотни миллионов лет назад уже гигантские динозавры разгуливали по Земле и усовершенствовалось всякое-превсякое комарье – вплоть до настройства своих мельчайших радаров, то и тогда же развивалось стадо человекообразных, а не спустя сотни миллионов лет после этого – внезапно, будто только что нашу цивилизацию спешно высеяли из лукошка космоса.
– На мученье больше… Как в штрафбат… Примерно…
– Да не скажи… Люд развлекается, пока живет; если нет войны, междоусобиц, смертоубийства, – подай нам постель, секс; ненасытно гребем все до себя, обнищаем нищих, но говорим, что эта дикость – благо для всех, лучше смиритесь и молитесь. Для того и религия придумана. Итак, хожу… Давай, давай, пижон, беги!
– Что, я пешку профукал? Не спеши, обожди! Покамест…
– Тебе жалко пешку? Пешку жалко?
– Ты тоже воспользовался, гад! Заговорил меня… Я забыл…
– Не-е! Просто забегался тут один офицер по доске! Забыл? Это надо немножко и совесть иметь, Михайлыч. Ай-яй! Так вот – ты задумался на этот счет… Пока ты задумался…
– Кость на кость долой! Иди без денег домой.
– Так нехорошо и так нехорошо… Что же воспитания касается… Мы о том ведь заговорили сперва. Я в разговоре с женой не мог не разойтись в скоропалительном отыскивании врагов. Сыну сказал: «Сережа, послушай меня – тебе полезно будет… В жизни на готовенькое не рассчитывай – только на себя; не надейся на дорогу, усыпанную розами; тысячу раз подумай прежде, чем взяться за какую-нибудь ношу. Контролируй себя и в школьных незадачках».
– Да ты должен настоять: «Ты же мужчина, разберись сам!» Бац! Все. Привет семье.
– Не торопись, друг, на тот свет – кабаков там нет. Чтож ты думаешь, я лапоть? Ничего не понимаю? Я тоже сказал в пользу педагога. Мало того, что родители мои были педагогами, но и сам я, юрист, кое-что смыслю в педагогике, хочу воспитать в сыне доброту; это еще мои родители, помню, говорили, когда я выбил футбольным мячом стекло: «За что же исключать школьника из школы – лишь за выбитое случайно стекло? Притом такое маленькое». Пардон: я конем перехожу…
– Вижу. Пешечку подвину. Да, но именно за маленькое стеклышко разбитое расстреляли в тридцать восьмом отца моего знакомого. Он потребовал от отца мальчика, чтобы тот лично вставил новое стекло взамен разбитого, а тот наклепал на него в органы безопасности, и всех-то делов. А тебе скоро будет мат, товарищ…
– Кошмар – расстрельные доносы эти! Самоподстройка… Давай новую партию! И я доскажу…
– Вас – сорок же учеников у одной учительницы, говорю Сережке, – каждому не угодишь. «Хм, сорок, тогда почему на уроке физики сидим – не шелохнемся, возражает он. – Она скажет по-тихому кому: «Положи сюда дневник». – Тот и кладет его безропотно. А тут математичка крикливая так дернула Хватова за ухо, что он аж подпрыгнул от боли; а Хомякова она выгнала с урока ни за что, ошалелая». – И когда он называет Хомякова, поверь, Михайлыч, у меня даже на сердце захолынивает все. Вечно тот полураздет, у него еще сестренка есть – страдалица. Родители безовнимательны к ним, не проявляют ласку – может, еще потому, что он в их глазах как и в глазах других какой-то странный, словно чего-то «нехватает» у него в голове.
– Да, напротив, Сергей, к сирому должно быть лучшее отношение, чтобы он не чувствовал своей ущербности.
– Оттого я внушал Сереже одно: «Вот с этим Хомяковым и надо дружить, помогать ему». «Что же, давать ему списывать»? – спросил сын. «Нет, но поддерживать его», – убеждал я. И Сережа сейчас вроде бы неплохо относится к нему. Касательно же матери Хомякова – швах, провал: в то время как он ходит в рвани, в коротеньких штанишках, из которых давно вырос, она приходит в школу в новой шубке. Напоказ. Ну, что это? Как называется? Такое уж все одноклассники заметили. А Сережка заявил, что во всем виноват Алексей Дмитриевич. Однажды Сережка шел вместе с Воронковым, и они вдвоем решили так. «А кто такой Алексей Дмитриевич»? – спросил я. «Да математик, что был до Анны Андреевны. Он никогда не кричал, не рычал, ориентировался только на пять-шесть лучших учеников – нас. Приходил – давал нам задание. Мы-то сильные, занимались с увлечением, а остальные ребята – нет, делали, что хотели. И он не обращал на них никакого внимания. А теперь и кричат на нас, разучившихся мозговать, и дергают за ухо…»
– Сейчас и нас дернут за уши наши женушки: идут сюда, – проговорил Михайлыч (толстяк).
Действительно, с верху раздался женский возглас, обращенный к шахматистам:
– Эй, московские угодники, замлели, что ли, за игрой? И обедать даже не желаете? Ну-ну!
– Сейчас, сейчас идем! – был ответ играющих.
VI
– Бум-бум-бум! – Молотили голоса раным-рано. В придачу ко всем звукам приморским.
– Вечером не заснешь, утром не добудишься, – жаловалась Татьяна Васильевна: по соседству на усадьбе хозяин вновь ретиво расхозяйствовался напоказ. – Разве поспишь тут? Радио включил на всю мощь. Шланг поливной открыл – вода хлещет. Ведрами гремит. С соседом перекрикивается. Кашляет. С вечерка-то бузили по пьяни – ой! Все равно же, как ни изгаляйся он перед светом, сейчас жена его с работы придет домой – отчихвостит его немеренно за вчерашнюю пьянку-вольницу. Все на кучу ему вспомнит. И сын их 27 лет – скандалист, отвешивает ругань. Заводится с полуоборота. Не работающий, но решил жениться. Его невеста тоже не работает. Но уже качает для себя права перед ними.
Действительно, что ни здешняя семья, то пенки какие-то. Накипь.
И очень странные старики. Если с одной бабусей поговоришь по душам или купишь у нее что из ягод, то другие сердятся: лучше купи у них; естественным считается здесь повсеместно – что ты вовек обязан им, если за свои же кровные пожил у них недельки три. На рынке, например, восьмидесятилетняя Марфа Матвеевна, торгующая изо дня в день ягодами, снедью, корит молодую приезжую покупательницу, снимавшую у ней комнату три года назад:
– Что же ты, Галя, не заходишь? Дедуля мой очень плохой. – Бабка словно выговаривает ее. И та явно смущается. Ведь зайти-то нужно с подарком!
И другая картина.
– К чертовой матери! – ругается на весь пляж молоденькая отдыхающая на девочку лет шести. – Сейчас оторву тебе голову!
– Русский язык понимаешь ты?! – рычит другая на малолетнего сына. – Голос, не предвещающий ничего хорошего.
– Краб! Я краба вот поймал! – вопит шпингалет, вооруженный подводным ружьем, в ластах.
А дальше полнобрюхий мужчина – сам как краб – с широким разлапистым туловищем с длинными загребущими руками, которыми размахивал, как клешнями, загорело-черный, бегал за девочками по пляжу (на коротких кривых ногах). Те визжали от забавы. Невиданной.
Это какой-то театр с маленькими пьесками, в действия которых все вовлечены, все играют с азартом, забываясь.
«А я-то, залетная дичь, с самоконтролем, не подвержен таким эмоциям, – подумалось Ефиму. – Ненормальность во мне? Похвально ли или противоестественно мое поведение?.. Может, я чокнулся, гонясь за призрачной…туфтой? Не расслабившись от образа жизни городской?»
Ему вспомнился недавно происшедший с ним эпизод. Забавный.
Лифт ехал вниз, где ждал его Ефим. В парадную ввалились двое мужчин средних лет. Их покачивало. Один толкнул Ефима плечом – устоять не мог. Спросил отрывисто:
– Вызвал?
– Нет, и так спускаются сюда, – ответил Ефим.
– Так кнопку нажимал?
– Зачем же нажимать: видите – красный свет горит, и люди едут сюда.
– Тебе – какой этаж? – был вопрос уже в кабине.
– Девятый.
– А нам третий. Не забыли. – Приставала (он больше товарища, видно, запьянел) опять: – Что такой неразговорчивый? Или работал? – Работа, наверное, ассоциировалась в его понятии со скукой.
Ефим молча уже посмотрел тому в глаза.
– Ишь, только смотрит и – молчит. Иконник!
Тут лифт остановился и открылся.
Как ни рассчитывал Ефим подзарядиться новыми южными впечатлениями, он, пожалуй, не был готов здесь психологически к полной свободе от всего, как, бывает, другие отдыхающие. К тому же не испытывал надобности и необходимости безоглядного – до умопомрачения – загорания на солнце у воды. Купание – да – доставляло ему наслаждение; но его преследовал человеческий гам, детский скулеж и крики взрослых, одергивающих их, гулявших на свободе-матушке. И он несколько разочаровался в своем времяпровождении. Самотек отпускников-отдыхающих с их устройством развлечений не увлекал его.
Что его отчасти уязвляло по-граждански: укоренившиеся меркантильные поборы приморских жителей с приезжих наряду с мелочной неуступчивостью в их устройстве – при всяких ущемлениях и нескрываемой завистью к их жизни, к их деньгам и полновесному в общепринятом понятии отдыху, хотя лишь за счет прибыли отдыхающих-квартирантов они обеспечивали себе житье-бытье до следующего летнего сезона. Нередко местные хозяйки как бы сетовали по обыкновению на некую несправедливость:
– А я вот еще не разочек не выкупалась в море: мне некогда, хоть и живем на самом берегу, считай. – На что Ефим однажды и парировал:
– А я вот, представьте, две выставки в Эрмитаже пропустил – не мог пойти, хотя и живу в Ленинграде, и туда туристы ежедневно ломятся…
Ефим не жил по принципу: довольствуйся малым (пока так и было в принципе). Но его больше всего впечатлял чей-нибудь альтруизм, идущий от сердца, от нормальных сердечных толчков. Как впечатляло в дни службы то, насколько же хорошо сослуживцы в 19-20 лет знали (и когда успели?) симфоническую музыку, если узнавали ее на слух. Сколько читали книг, – тому он завидовал. И старался не отстать от товарищей. Да достойно было восхищения и то, что Константин, не получивший должного образования, хотел, чтобы больше животных рисовали и записывали интересные для людей истории, восхищался чьими-то поступками; он, уроженец Москвы, умел и знал, судя по всему, как практично распорядиться собой везде, в том числе и на селе; он не ныл и по поводу профессии своей – мол, подай ему только ее – не то он умрет с горя…
Нынче Ефиму тяжело спалось. Снилось, что лежал он в какой-то незнакомой избе; опомнившись, заглянул за спину, в оконце, и увидел, что избушка-то приткнулась к самой-самой гранитной отвесной – может быть, трехкилометровой высоты – скале, – и жутко ему стало. Разве можно спокойно спать, находясь в постоянной опасности, под этой кручей? Того и гляди, что какой-нибудь камушек сверзнется и ахнет…