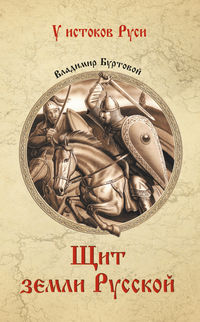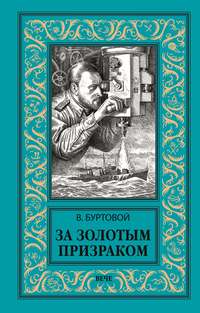Полная версия
Караван в Хиву

Владимир Буртовой
Караван в Хиву
© Буртовой В. И., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Караван в Хиву
Моим родителям Надежде Андреевне и Ивану Александровичу с глубокой признательностью за понимание и поддержку посвящаю эту повесть.
АвторГосударыня императрица Елисавета Петровна, последуя стопам родителя своего, государя императора Петра Великого, к познанию азиатских владений и областей и к распространению российской в Оренбурге коммерции отправлением в те области российских купеческих караванов с товарами, повелеть соизволила действительному тайному советнику и бывшему в Оренбурге губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву учинить сему начало…
Данила РукавкинПервопроходцы
Сентябрь 1753 года, месяц неистовых листопадных буранов и шумных осенних торгов…
Проселочная, хорошо наезженная дорога, просохшая за ведренные дни бабьего лета, к югу от Переволоцкой крепости, словно притомившись, перестала повторять бесконечные повороты реки Сакмары. Огибая встречный увал, она откачнулась вправо и вышла к неоглядному, залитому солнцем лесу, который раскинулся по холмистой низине и полыхал яркими красками осени. Дружно раскраснелись робкие осины, подрумянились скромницы-березки, зато тополя, подбоченясь ветками, не торопились обнажать стройные стволы. По тенистым полянам еще приметны среди буйного бурьяна синие луговые васильки, а над ними красуется в гроздьях спелых ягод раскидистая калина. Каждый листочек трепетал в ожидании последнего для себя порыва холодного северного ветра…
К обеду второго дня лес кончился, и дорога поднялась на невысокий, укрытый кустарником и полынью холм с пологими склонами, переходящими в овражистое поле.
Караван самарских купцов после десятидневного пути наконец-то приблизился к Оренбургу, где со дня на день должны начаться осенние торги с богатыми купцами Востока и пришлыми из южных стран.
– Кажись, братцы, доехали, – кашлянув в кулак, негромко сказал Данила Рукавкин. – В самое купеческое пекло попали! Теперь не зевайте, самаряне: на покляпое дерево и козы скачут! – Он легко привстал в стременах и, прищуря серые глаза в глубоких темных глазницах, внимательно посмотрел сначала на открывшийся город, а потом на утомленных дорогой спутников.
К Рукавкину подъехали неунывающий, разбитной Аис Илькин, самарский купец из татар, и молчун по природе своей Родион Михайлов, приказчик видного самарского купца Кандамаева. Третьим спутником был юркий проныра, небольшого росточка сорокалетний купец из самарского пригорода Алексеевска Лука Ширванов. Вслед за всадниками уставшие кони тянули изрядно разбитые за дорогу возы. Однообразно, более по привычке, чем по нужде, с тех возов покрикивали пропыленные погонщики.
Отсюда, с возвышения, в легком мареве чистого сентябрьского воздуха, Оренбург виден был без помех, широко легший на берегах рек Яика и Сакмары, текущей с отрогов Каменного Пояса.
Новый губернский город, центр только еще осваиваемого обширнейшего края, был заложен десять лет тому назад, в 1743 году, Иваном Ивановичем Неплюевым, обнесен земляным валом протяженностью более пяти верст, вышиной свыше пяти аршин[1] да рвом вдоль вала примерно такой же глубины, а по низким местам и того глубже. По форме город походил на многоугольник, имел десять мощных земляных бастионов да два полубастиона над обрывистым берегом реки Яик, обращенных в сторону диких южных степей. Из Оренбурга выходило четыре дороги через Сакмарские ворота на север, через Водяные – на юг, через Чернореченские – на запад и на восток – через Орские.
В город караван самарских купцов вошел через западные ворота, шумной Губернской улицей проследовал к недавно отстроенному Гостиному двору в самом центре города, через ворота которого беспрестанно въезжали и выезжали десятки возов и телег местных жителей. Рядом поднимались купола небольшой каменной церкви Благовещенья Божьей Матери.
Самаряне перекрестились, отбили земные поклоны и с немалым трудом протиснулись на большую торговую площадь. В центре ее – таможня. Туда и направились три купца просить место для товаров.
Высокий ростом Родион Михайлов заломил чуть не полуаршинную мурмолку синего сукна почти на затылок, распахнул тугой в поясе кафтан и спрыгнул на землю с темно-рыжего коня. Не выпуская из рук узду, широко расставя избитые в седле ноги – впервые пришлось совершать верхом такой долгий путь, – он с восхищением глазел на богатые сооружения торгового двора. Скупой на похвальное слово, тут он не удержался и сказал Ивану Захарову, помощнику купца Ширванова:
– Куда нашему самарскому пыльному торгу!
Насчитал до полторы сотни добротных лавок – и перед каждой навес от непогоды. Рядом встал погонщик Данилы Рукавкина Герасим, задрал вверх курчавую огненнорыжую бороду и изрек, шепелявя через выбитые зубы:
– Иштинный бог – зрю вавилоншкое штолпотворение!
Зубы бывший волжский бурлак потерял в драке под дверьми одного из самарских питейных домов, а в погонщики нанялся к Рукавкину после того, как, перегоняя прошлой холодной осенью баржу от Самары вверх до Новгорода, застудил ноги и страдал теперь от ломоты в ступнях. А на возу сидеть – что за труд? Сила же в плечах осталась прежней, бурлацкой.
С немым удивлением озирался на незнакомый город и чужих людей погонщик Родиона Михайлова Пахом, сиротой взятый в приживальщики в дом купца Кандамаева, а как вырос, вот уже добрых лет двадцать состоит в работниках за харчи и одежду. Круглые, по-кошачьи зеленые глаза Пахома бегали растерянным взглядом по куполам ближних церквей и по людской толчее перед открытыми лавками.
А вокруг самарских возов уже засновали людишки, черные лицом и бородой, в длинных теплых стеганых халатах без поясных кушаков и потому свободно свисавших вдоль тела. На головах вместо привычных для россиян мурмолок или клобуков – старые войлочные или богатые меховые шапки с острыми верхами. На иных же – будто длинные полотенца, замысловато скрученные вокруг головы, один конец этого полотенца ниспадает непременно на левое плечо. И речь инородцев странная, словно кричат друг на друга в запальчивости, перевирая слова до смешной нелепицы.
Самарские купцы быстро закончили привычную перепись привезенных товаров, вышли из таможни, и каждый со своими возами направился к северной части Гостиного двора, где выделили им место.
Нанятые Рукавкиным работники вместе с прихрамывающим на обе ноги Герасимом освободили возы и перенесли тюки вовнутрь добротной лавки с закрытыми ставнями и с застоявшимся запахом овчинных шкур, недавно, видимо, лежавших здесь на полках. Рядом разгружался Родион Михайлов. Этот берег хозяйскую копейку, не стал нанимать работников. Сивый Пахом – косая сажень в плечах, – покрякивая и обливаясь потом, сам носил плотные, тяжелые тюки.
К Даниле, неслышно ступая остроносыми сапогами с белыми мягкими голенищами, подошел приятной наружности киргиз-кайсак. На нем был серый полосатый халат внакидку, под халатом верхняя рубаха из голубого шелка с длинными неширокими рукавами. Ворот рубахи высокий, окаймлен стежкой и застегнут белой пуговицей. Поверх рубахи – тугой пояс из кожи, а на нем медные бляшки с узорами. Обе распахнутые полы подоткнуты под пояс, а рукава слегка закатаны. Видно было, что купец совсем недавно был занят работой: из-под теплой войлочной шапки с нешироким мехом по кругу на темные виски стекали капельки пота. Штаны из белого холста изрядно припылены и измяты на коленях.
– Салам алейкум, – негромко произнес киргиз-кайсак, приложив обе руки к сердцу, почтительно, но с достоинством поклонился. – Все ли благополучно пришел? Все ли ваш караван живой-здоровый, почтенный мирза[2] Даниил?
Данила в удивлении вскинул русые брови – кто это так его величает? – потом прищурил серые глаза, двинул пальцем мурмолку на затылок так, что она едва не свалилась за спину. Тут же шуганул кнутом обшарпанного оренбургскими псами воришку, который уж больно настырно лез к крайнему возу. Вспоминал, вглядываясь сбоку в низкорослого киргиз-кайсака, потом узнал: встречал его здесь летом прошлого года. На его худощавом лице появилась радостная улыбка.
– Здравствуй, знакомец Малыбай!
У Малыбая щеки расплылись еще шире.
– Помнил, Малыбая помнил, мирза Даниил. – Он проворно вытер руки о внутреннюю подкладку подоткнутого халата и протянул их Рукавкину для приветственного пожатия. – Торговать будем, купи – менять товар будем?
– Непременно будем, друг Малыбай. Нынче с дороги в баньку, завтра отметим Воздвижение, а потом и за торги примемся. Готовь свои товары, смотреть приду.
О русском празднике Воздвижения, когда по крестьянскому календарю с поля сдвинулся последний воз с уродившимися овощами, а птицы пошли в отлет, Малыбай не знал, но о банях наслышан. Не сдержал любопытства, потрогал полу синего кафтана на Даниле, поцокал от восхищения. Черные нестареющие глаза совсем скрылись за морщинистыми веками.
– Ка-ароший сукна, мирза Даниил. Буду кипа целый у тебя брать. А теперь моя побежал свой лавка, товар доставать нада.
Вечером, едва самаряне возвратились к себе из жаркой бани на крутом каменистом берегу Яика, их отыскал нарочный от губернатора Неплюева и передал, что тот желает их видеть поутру в губернской канцелярии.
– Скажи почтенному Ивану Ивановичу, – ответил Рукавкин молодому щеголеватому казаку, – что и сами имели намерение прийти с поклоном к его превосходительству. Утром будем непременно. Одни мы званы или еще кто? – уточнил Данила.
Казак охотно пояснил, что ему велено оповестить всех купцов, оренбургских и иногородних, откланялся и покинул покои: самаряне на время торгов сняли полдома неподалеку от Гостиного двора, у местного рыботорговца.
Укладываясь на просторной кровати около печи – чужая постель, не своя, – Данила пробормотал, обращаясь к товарищам по каравану:
– Всех созывает… не к дому своему, а в канцелярию. К чему бы это? А? Вдруг какие новые пошлины объявит нам в убыток? Да, братцы, пробежал я перед вечером по азиатским лавкам – дороговато просят за тамошние товары. Вот кабы самим их оттуда вывозить, без перекупщиков, а? – И сам себе же ответил: – Нам о том мечтать, все равно что горбатой старухе о новом подвенечном платье.
Лука Ширванов расхохотался, а полусонный Родион выглянул из-под кафтана, непонимающе уточнил:
– Кто узрел старуху в платье?
Насмешливый Лука не утерпел и съязвил без злобы:
– Даниле сию минуту привиделась… заместо пышной Дарьи.
– Э-э, зубоскалы, – без обиды на друзей буркнул Рукавкин и повернулся лицом к стене. – Ночь уже, а им лишь бы смехотворением душу тешить. Ну, спать, спать, утро вечера мудренее…
Рассвет выдался погожий, тихий, с легким ночным морозцем. Во дворах голосили уцелевшие в зиму и оттого жизнерадостные петухи, из раскрытых дверей обильно струились соблазнительные запахи поджаренной с луком птицы, слышны были крики неугомонной детворы да перестук больших кухонных ножей: оренбуржцы отмечали праздник первой на Воздвиженье барыни – капусты, повсеместно началась ее рубка и засолка на долгую зиму.
Самаряне торопливо – не опоздать бы – прошли небольшой площадью мимо гарнизонной гауптвахты, на куполе которой большие часы в тот момент колоколом отзванивали девять раз. Над часами, поверх купола, вздымался тонкий шпиль, а на шпиле дерзко тянулся к синему свежему небу двуглавый российский орел: отвернулись те головы одна от другой в разные стороны, будто насмерть разругавшиеся невестка со свекровью.
Остановились перед парадным крыльцом нарядного двухэтажного дома губернской канцелярии.
– Нам к его превосходительству, – обратился Рукавкин к важному привратнику в новеньком мундире с сияющими пуговицами. На голове у привратника, поверх напудренного, явно чужого завитого парика, надета видавшая виды суконная голубая треуголка, пошитая еще во времена великого преобразователя России.
– На второй этаж, в залу, ваши степенства, – не по чину величаясь, привратник будто нехотя шевельнул богатыми светло-коричневыми усищами.
Вошли в прихожую, по ступенькам крашеной лестницы – ни одна половица не скрипнула под ногами почти семипудового Родиона – поднялись на второй этаж в просторный зал с окнами на юг, к Яику. По двум сторонам зала, вдоль стен, стояли скамьи, а на них – разновеликая и разноцветная купеческая братия, потому как съехалась сюда из Казани и Уфы, из Астрахани и Саратова, из Самары, Симбирска. Даже из Ростова был здесь купец Дюков, рыбный торговец.
Самаряне, войдя в зал, стащили с кудрей мурмолки, приветствовали степенную молчаливую публику почтительным поклоном. Им вразнобой ответили тем же. Данила осмотрелся, присел на край лавки у окна. Родион, немного робея перед столь внушительной купеческой публикой, примостился рядом. Ширванов задиристо двинул кого-то боком и умостился сам, а самарянин Аис Илькин поспешил приветствовать своих знакомцев – купцов из Казани. Молча ждали.
Раскрылась небольшая дверь в дальнем углу, вошел разодетый в кружева канцелярист, с уважительным брюшком и пышными полуседыми бакенбардами, без поклона публике медленно объявил:
– Его превосходительство господин действительный тайный советник и кавалер Иван Иванович Неплюев повелеть изволил сказать вам, что они будут через пять минут. Прошу всех сидеть на своих местах и не делать хауфен меншен[3]. – Канцелярист ввернул чужое словцо и тугим воротником выдавил на подбородке три отвислые складки.
– Чего не делать? – не понял Родион Михайлов и, чтобы другим не выказать свою неученость, наклонился к уху Рукавкина.
– Бес его знает, – тихо ругнулся Данила. Он медленно перевел взгляд на говорившего и с неприязнью уставился на него. – Вот уж воистину – веник в бане всем господин! И стекла на серебряной цепочке повесил на грудь, должно, для одного блезиру, – поморщился, глядя на кругленький животик под фалдами просторного кафтана. – С этими заморскими аршинами, – добавил свое излюбленное ругательство Рукавкин, – того и гляди угодишь в какую-нибудь прескверную историю. Одно ясно – велит сидеть нам по лавкам, пока его превосходительство не выйдет к нам для беседы. Что он нам преподнесет за новость, а? – спросил Данила у Родиона и сам себе ответил присказкой: – Была бы догадка, а на Москве денег кадка, сумели бы взять.
* * *Сонные купцы еще ворочались в теплых постелях от беспокойства, вызванного нежданным приглашением в канцелярию, а Иван Иванович Неплюев чуть свет пробудился ото сна, съел легкий завтрак, вошел в рабочий кабинет. Он был в отличном настроении. И было отчего радоваться. Едва ли не впервые за десять лет со дня основания Оренбурга появилась некоторая возможность наконец-то наладить мир между ханом Нурали из Малой Орды и хивинским ханом Каипом, обиженными друг на друга до крайней степени.
А ведь в последние пять лет даже о мире среди киргиз-кайсацких орд приходилось говорить как о несбыточном деле. Беспрестанные распри нередко переходили в кровавые побоища между улусами. Киргизская знать, салтаны и баи перебегали от одного хана к другому, были своенравны и непослушны, грабили соседей, нападали на торговые караваны, которые с невероятными трудностями пробирались через безводные пустыни и степи в Оренбург, Орск или в Астрахань.
Распри соседей вынуждали оренбургского губернатора вмешиваться в конфликты ханов, но делал он это осторожно и тактично, без обид для киргиз-кайсаков, озаботясь миром на южном рубеже России. Но самым трудным был, пожалуй, год, когда погиб хитрый и ненадежный в своих словах и подданстве российским императорам Абул-Хаир, хан Малой Орды, чьи кибитки кочевали в непосредственной близости с землями Яицкого казачьего войска.
Весной несколько богатых киргиз-кайсаков из Джалаирского рода в Большой Орде уговорили каракалпаков того же рода откочевать к Сырдарье, обещая не только покой, но и защиту от чужеродцев, поскольку и сами обещались расположиться рядом. И вот до полутора тысяч кибиток каракалпаков тронулись в путь. Когда они были на расстоянии одного дня от города Туркестана, на них напали многочисленные киргиз-кайсаки хана Средней Орды Кучака и Барак-Салтана, который был одним из влиятельнейших и сильнейших салтанов в Орде и имел владения за Сырдарьей. Ограбленные каракалпаки попали в плен.
Узнав об этом, Абул-Хаир отправился на поиски обидчиков. Он нашел Барак-Салтана между речками Тургай и Улысаяк. Завязалась драка. Приближенные Абул-Хаира очень скоро бежали, самого хана настиг Щигай, сын Барак-Салтана, сбил копьем с коня. Барак-Салтан подъехал и саблей срубил голову Абул-Хаиру.
26 августа 1748 года Неплюев получил известие о гибели хана Малой Орды и был весьма озабочен неминуемым, должно быть, междоусобным столкновением кочевников.
После гибели старого хана наследовать ему должен был старший сын Нурали. Жена покойного Абул-Хаира, очень умная и почитаемая всеми киргиз-кайсаками Пупай-ханша, и ее сыновья обратились к Неплюеву с требованием наказать убийцу и утвердить Нурали на ханство в Малой Орде.
Неплюев незамедлительно направил в ханскую ставку своего доверенного посланца Якова Гуляева с наказом всеми силами отговорить Пупай от мести Барак-Салтану, пока ее сын Нурали не будет утвержден императрицею Елизаветой Петровной в звании хана Малой Орды.
Одновременно, тайно, минуя улусы семейства убитого хана, через Башкирию, в Среднюю Орду был направлен другой посланец из бузулукских казаков – Матвей Арапов с наказом Барак-Салтану не откочевывать в глубь Средней Азии, к зюнгорцам, которые в свою очередь были озлоблены на Абул-Хаира за разграбление кашгарцев.
Нурали, опасаясь конкуренции Батыр-Салтана, отца хивинского хана Каипа, 22 октября 1748 года отправляет своих послов в Петербург в сопровождении Якова Гуляева. 26 февраля следующего года представители Малой Орды весьма торжественно были приняты императрицей, обласканы, одарены богатыми подарками. На ходатайстве послов была начертана резолюция императрицы Елизаветы Петровны: «…рассудили мы за благо новоизбранного хана назвать и подтвердить киргиз-кайсацким ханом, не именуя ни Меньшой, ни Средней Орды».
1 июля 1749 года к Оренбургу прибыли братья хана Эрали и Ходжа-Салтан, остановились за рекой Яик в пяти верстах от города, ждали скорого уже прибытия послов из Петербурга и хана Нурали из степи.
10 июля Неплюев со свитой выехал в специально построенный лагерь в одной версте от города для «всенародного объявления хана киргиз-кайсаков». Под барабанный бой и пушечный салют, в присутствии многочисленной родни и более сотни старшин и беков был зачитан по-русски, а затем по-киргиз-кайсацки патент на ханство. Нурали принял патент и торжественно положил его себе на голову. На него надели подаренную парчовую шубу на собольем меху и шапку из черно-бурой лисицы, вручили саблю, на которой было написано по-русски и по-киргизски: «Божиею милостью мы Елисавет Первая Императрица и Самодержца Всероссийская жалует сею саблею подданного своего Нурали-хана киргиз-кайсацкого при учреждении его в сие достоинство. 26 февраля 1749 года».
Иван Иванович вспомнил, с какой поспешностью – словно опасался, что из-за спины метнется враждебная рука и перехватит бесценный лист плотной бумаги! – Нурали взял из его рук писанную для него в Сенате присягу и зачитал ее на своем языке, торопясь и волнуясь, все еще не веря в победу над сильными и коварными противниками: «Я, ниже поимянованный, обещаюся и клянуся всемогущим Богом, что хощу и должен Ея Императорскому Величеству моей истинной Государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице всероссийской, и протчая, и протчая, и протчая. И Ея Императорского Величества высокому законному наследнику Его императорскому высочеству Государю великому князю Петру Федоровичу, который по изволению и самодержавной Ея Императорского Величества власти определен, и впредь от Ея ж Императорского Величества по самодержавной Ея Императорского Величества власти определяемым наследником верным добрым и послушным подданным быть и служить Ея Величеству верно, как то верному подданному надлежит, и никакой противности ни явно, ни тайно не чинить, и подданному мне ханскому достоинству во всем поступать и исполнение чинить, по Ея Императорского Величества указам, не жалея живота своего, подчиненной же мне киргис-касацкий народ содержать по нашему обыкновению в правосудии и спокойствии, и о всяких предприятиях противу интересов Ея Императорского Величества и собственной киргис-касацкого народа общей пользы отвращать, а ежели собою сего учинить не могу, о том заблаговременно знать давать, в заключение сей моей клятвы целую куран, и прилагаю мою печать».
Скрепив печатью прочитанную присягу, теперь уже не просто Нурали, а Нурали-хан вынес ее вместе с патентом на всеобщее старшин и баев обозрение, и под торжественный крик собравшихся родичей он был поднят на кошме ханов…
Хивинскому же послу, прибывшему в Оренбург, «в пристойных терминах» было отказано от поездки в Петербург, где он намеревался хлопотать об утверждении на ханство в Малой Орде Батыр-Салтана. Петербург предпочел в ханы Нурали потому, что он стоял ближе к неспокойной южной границе империи и из опасения, что он откочует со своими улусами от Оренбурга. Провозглашение Батыр-Салтана главой Малой орды усилило бы хивинского хана Каипа, воспринимавшего враждебно все начинания России в Средней Азии.
Два степняка ощетинились друг на друга. Каип-хан распорядился ввести непомерную пошлину на скот, которым торговали киргиз-кайсаки до этого беспошлинно. Нурали-хан в ответ на это разрешил беспрепятственно грабить торговые караваны хивинцев, которые шли в российские города всякую весну и осень. Противоборство грозило быть долгим и серьезно подорвать торговое дело, так успешно начатое азиатскими купцами в новых российских городках.
И вот наконец-то получено известие: Яков Гуляев писал, что Нурали-хан готов завязать дружеские сношения и вновь восстановить надежную торговую связь с Хивой и Бухарой. Хан запретит киргизам своих улусов нападать на хивинские караваны. Нурали-хан просил губернатора прислать русских посредников для переговоров с хивинским ханом.
«Стену недоверия надобно ломать нам первыми, потому как мы более сильная держава. Хивинцы нас опасаются, нам первыми и идти к ним с добрыми намерениями. И сделать это могут только купцы, а уж за ними и посольству дорога будет проложена. Прибытие русского каравана в Хиву выкажет хану и тамошним купцам наше доброе к ним расположение и безопасность пути к нашим городам» – так решил Неплюев после долгих ночных раздумий. Одно беспокоило Ивана Ивановича – сыщутся ли охочие люди пойти в Хиву? Великое мужество надо иметь в сердце, чтобы отважиться идти к ханам, с рук которых еще не смыта кровь российских людей.
Неплюев в задумчивости потер пальцами высокий лоб, над которым густо вились когда-то черные, а теперь разбавленные неумолимой сединой волосы.
Уставшие глаза подернулись влагой, едва вспомнился в эту минуту незабвенный покровитель и воспитатель Петр, царь и труженик.
«Знал бы ты, батюшка Петр, что твоими помыслыми жива лучшая часть России. Тобой намечен путь, по которому ныне готов я направить русских мужей. И подвиг этот можно будет смело приравнять к подвигу Ермака, распахнувшего для России дверь в бескрайнюю Сибирь, к подвигу Беринга – мореплавателя, открывшего Аляску. Моим же посланцам предстоит открыть путь российским караванам в земли богатейшей Азии, до Хивы и Бухарин, а затем, быть может, и до сказочно богатой Индии, о которой мечтал и ты, батюшка Петр. Великое дело – проложить первую тропу, сделать почин…»
Две складки от большого с горбинкой носа ко рту обозначились еще четче от горькой думы, что рано осиротила Россию смерть Петра. Только набрала она бег, как умер ее прозорливый кормчий. И завертели Петровым ковчегом чужие ветры, пошли временщики-немцы при царицах, а помыслы у тех временщиков не о благе и чести России, ее народа…
Неплюев прошел от стола к окну, в которое слева заглядывал косой луч взошедшего солнца. Высохший ковыль степи за низким левым берегом Яика порозовел. День обещал быть теплым, безветренным.
Вид безбрежной светло-розовой степи отвлек от мыслей о прошлом, вернул к реальности дня сегодняшнего. Неплюев еще раз просмотрел письмо Гуляева, крикнул канцеляриста, чтобы вызвал к нему толмача Чучалова, да не мешкая. А сам вновь по-стариковски загрустил о далекой молодости. «Нетленна память, батюшка Петр, о делах твоих. И в поучение всем нам, твоим выученикам. Како ты пестал нас, к наукам и делам приучая, тако же и мы теперь в меру сил… Вот ныне у меня при канцелярии открыта школа толмачей, а беру я в ту школу способных да расторопных отроков. И тем имею добрых помощников для переговорных дел со здешними ордами и дальними государствами. Иначе был бы я нем и глух. Старательным толмачам и жалование кладу не малое, по пятидесяти рублей в год, как церковному протопопу…»