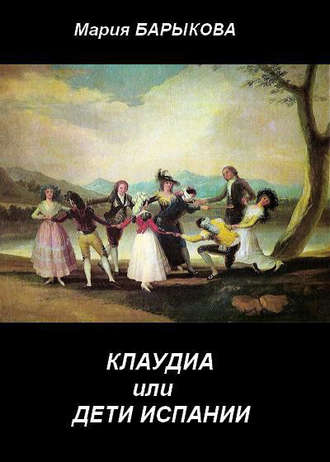
Полная версия
Клаудиа, или Дети Испании. Книга первая
– Разумеется, я был бы счастлив! – ответил он, уткнувшись взглядом в пышную дразнящую даже сквозь ткань грудь.
– Так сделай это. Ради своего счастья хотя бы. Или ты боишься? Боишься лишиться королевской ласки?
Мануэля передернуло при воспоминании о последнем свидании с Марией Луизой, и он искренне вздохнул.
– Ах, Пепита, к чему такие слова? Ничего я не боюсь. В конце концов, мои постельные обязанности перед королевой давно стоят у меня поперек горла. Эти идиоты Бурбоны делают все, что захотят, а я только отдуваюсь за все их прихоти. Вот отделаюсь от чертовых святош да и уйду в отставку. Однако сейчас сделать это решительно невозможно. Меня тут же упекут в подвалы инквизиции, и на этом все кончится.
– А послушай, Мануэль, – вдруг оживилась Пепа, которая в продолжение всего разговора о чем-то напряженно размышляла. – Если я помогу тебе избавиться от этих святош, ты женишься на мне?
– Да как ты можешь мне в этом помочь?
– Это уж мое дело. А твое ответить: да или нет.
– Мне бы не хотелось впутывать тебя во всю эту гнусную политику.
– Разве меня возможно впутать в политику? Вот глупец! Ты все сделаешь сам. Послушай, если причина твоей нерешительности только в этом, просто пошли подальше всех этих святош – вот и все. Я бы плевала на все это, – при этих словах Хосефа действительно презрительно сплюнула приставшую к губе крошку табака, – а вот малыша не стоит навсегда оставлять бастардом.
– То есть как это, послать подальше? – оторопел Мануэль.
– А так, в Рим. Раз они так любят этого своего Папу, так пусть и катятся к нему и не мешают здесь людям жить так, как им хочется.
– Но… Рим осажден французами, и Папе сейчас не до гостей…
– Неужели ты тоже так считаешь? А я вот думаю как раз наоборот: сейчас он как никогда нуждается в поддержке верных ему людей.
– Как, как ты сказала?! Как никогда нуждается в поддержке!.. Пепа, ты гений! – и с этими словами Мануэль вскочил с дивана, подхватил на руки тяжелую, несмотря на тонкую талию и узкие ножки Пепу, и закружился с ней по комнате. – Ах, черт! Пепа! Что бы я без тебя делал?! Мы обвенчаемся с тобой тотчас же! Эй, музыку сюда, вина! – Двое гвардейцев, стоявших за дверями, тут же помчались исполнять приказания. – Бежим, бежим в мою домашнюю часовню, падре Челестино, должно быть, еще там!
* * *В ту же ночь премьер-министр Испании, Князь мира, герцог Алькудиа, дон Мануэль Годой обвенчался в домашней часовне своего дворца с Хосефой Тудо и после бурной брачной ночи едва успел появиться к первому приему у королевы. Мария Луиза в это утро была капризна, зато ее фаворит предельно любезен, однако от всех стремлений августейшей любовницы Годой на этот раз мягко отказался, сославшись на легкое недомогание, заодно оправдывая им же свой поздний подъем.
– Да, чико, а король уже справлялся о тебе и так подозрительно сказал мне: «Странно, что именно сегодня его и нет».
– Так и сказал?
– Да, именно так и сказал. А когда я спросила, какая же странность в твоем сегодняшнем отсутствии, он ответил, что именно сегодня он хотел спросить тебя об одном деле, а тебя не оказалось.
– А Его Величество не изволили сказать, о каком именно деле хотели поговорить со мной именно сегодня?
– Нет, как я ни просила. Его величество ограничился лишь тем, что просил тебя зайти к нему, как только появишься.
– Но что же вы сразу мне не сказали об этом?
– Ах, чико, как ты не понимаешь! Мне не хотелось сразу отпускать тебя сегодня… Но раз ты такой бука, то так уж и быть, иди. Король, должно быть, уже совсем в нетерпении.
Раскланявшись и поцеловав унизанную перстнями руку, Годой с гулко бьющимся сердцем, через весь дворец направился на половину короля. «Что там еще такое? Что за спешка? – в волнении думал он, одолеваемый нехорошими предчувствиями. – Вряд ли это касается вестей из инквизиции. Если бы Лоренсана уже получил ответ Папы, то эти святоши первым делом направились бы к королеве, а не к королю. Значит, дело в другом… Неужели этому олуху уже донесли о моем тайном венчании?» – вдруг в ужасе подумал он. – Но ведь я постарался принять все меры предосторожности, до поры до времени эта новость для всех должна оставаться тайной. Челестино – человек верный и вряд ли начнет затевать против меня скрытые интриги. В свидетелях были только Браулио, которого заподозрить трудно, и дуэнья. Старой карге тоже совсем не резон идти против интересов своей хозяйки…» – Мануэль так и не нашел вразумительных причин для столь срочного вызова к королю, а между тем до приемной Его Католического Величества оставались считанные шаги.
– Ага, пришел, – громовым голосом приветствовал его Карлос. – Что это ты, голубчик, сегодня, против обыкновения, отсутствовал во дворце с утра?
– Вчера с вечера, Ваше Величество, я отправился к себе в Алькудию, – начал Годой, пытаясь по выражению темно-голубых и словно смотрящих в пустоту глаз короля угадать, действительно ли он уже знает о происшедшем в часовне, или его вызов касается чего-либо другого.
Однако лицо короля с глазами, как у слепца, по-прежнему ничего определенного не выражало.
Мануэль уже собрался перевести все в шутку, как в следующее мгновение Карлос, освобождая первого министра от дальнейших мучительных раздумий и всяческих отговорок, нетерпеливо выпалил:
– Ладно, черт с ним, меня не интересует, что вы там делали в своем дворце, но что это за болтовня, позвольте спросить?
– Какая болтовня? О чем вы, Ваше Величество?
– Вот, прочтите! – и король небрежно сунул Годою под нос какую-то бумагу.
Мануэль уставился в нее и против короткого ногтя короля прочел:
«Он предлагал мне, Ваше Величество, устроить у нас Директорию на манер французской…»
Все сразу стало ясно. Годой даже не спросил об авторе, прекрасно зная, что такое мог написать только министр юстиции Мельчиор де Ховельянос.
– Одну минуту, Ваше Величество, – сказал Мануэль и, не поклонившись, выскочил из кабинета. Карлос Четвертый в недоумении пожал вслед ему плечами, но продолжал спокойно ждать. Он, в общем-то, и до этого не очень волновался, а теперь, за одну минуту ничего страшного случиться не успеет. Втайне король все-таки глубоко надеялся на благополучное разрешение вопроса. Карлос привык к своему первому министру и ничего не хотел менять.
Мануэль стрелой летел к себе в кабинет, по пути бормоча проклятия в адрес этого черта Ховельяноса. «Вот ведь каналья, не я ли вытащил его из забвения и помог вновь оказаться на первых ролях в этом государстве! Вот она – благодарность человеческая».
У себя в кабинете Годой, несмотря на адский беспорядок, довольно быстро нашел черновик того письма, которое недавно послал министру юстиции, и с ним вновь побежал в приемную короля. Какая-то старая фрейлина, которую он едва не сбил с ног, только пискнула, словно мышь, и прянула в сторону. Мануэль ворвался в кабинет почти не запыхавшимся и точно так же, как за минуту до этого король, указал ногтем его величеству ту свою фразу, которая была истолкована министром юстиции таким вопиющим образом.
Король, хмуро глядя в довольно-таки аккуратно исписанный черновик, прочел:
– При существующей сегодня у нас в Испании форме правления мы можем достичь даже намного большего, чем французы со всем их так называемым демократическим устройством. Но впрочем, если вам угодно, мы можем организовать и у нас нечто вроде королевской Директории. Однако, все это лишь пустые формальности… – король перестал читать и полным признательности взглядом посмотрел на своего любимца, Князя мира, кавалера ордена Золотого руна.
– Вы свободны, Мануэль, – Годой без лишних слов раскланялся и, уже на выходе услышал распоряжение Карлоса, громовым голосом данное королевскому секретарю. – Пригласите Ховельяноса и поживее.
Мануэль был уже достаточно далеко от приемной, когда до него донеслись ругательства Его Императорского Величества, никогда не стеснявшегося в выражении никаких своих чувств.
– Все, больше ничего и никого не хочу слушать! Убирайтесь в преисподнюю, к черту на рога, куда угодно! Чтобы больше я вас не видел ни в Мадриде, ни в его окрестностях…
* * *Всю следующую неделю Годой наслаждался миром и покоем, царившими и в королевской, и в его собственной семьях. По истечении же недели он, наконец, получил от отца Варфоломея не только содержание всех трех доносов, но и множество дополнительных свидетельств, вполне достаточных для того, чтобы совершенно опорочить де Мускиса и Деспига в глазах Их Католических Величеств. Щедро оплатив услуги своего верного слуги, Князь мира был несказанно доволен. Теперь у него в руках достаточно козырей против этой проклятой троицы и он может в любой момент одним ударом отделаться не только от трех опаснейших врагов, но и снискать себе славу человека, показавшего этим инквизиторам их действительное место и значение.
Насвистывая крамольную песню марсельского полка, ноты которой совсем недавно достал ему всезнающий Браулио, Мануэль привычно вошел в покои королевы для утреннего доклада, но на этот раз застал ее против обыкновения уже не одну, а с духовником. Сухонький священник немедля отскочил от королевы и замер в выжидательной позе. На Марии Луизе не было лица.
«Что еще успела нашептать ей эта каналья? Неужели святоши опередили меня?» – лихорадочно соображал Мануэль, однако томно потупил глаза и двусмысленно улыбнулся. Королева сделала вид, что ничего не видит. Тогда ему пришлось произнести какую-то дежурную фразу, и только тогда Мария Луиза молча сделала рукой знак де Мускису удалиться. Священник, подобрав полы сутаны, стремительно прошел мимо Мануэля, обдав его затхлым мышиным запахом, и скрылся за дверью. Годой ни на миг не сомневался, что назревает буря, но никак не мог угадать источник и направление готовящегося удара. Времени на размышления больше не было: не успели еще замереть вдали гулкие шаги маленького священника, как Мария Луиза, ставшая вдруг из пепельной красной, выпалила:
– Мразь! Да как после этого ты смеешь показываться мне на глаза, ублюдок!
– Что случилось, Ваше Величество? – продолжал любезно улыбаться Годой, давно привыкший, что в иные минуты королева может выражаться, как погонщик мулов. – Что опять нашептал вам этот, с позволения сказать, духовник?
– Молчать, презренная тварь!
– Да что это такое, черт побери! – наконец, не выдержал и тоже выругался Годой.
– Пошел вон! Я даже не желаю с тобой разговаривать! – крикнула Мария Луиза и, не дожидаясь, пока Мануэль покинет ее, стремительно вышла сама и направилась прямо к королю.
В аванзале королеву ждала камарера-майор, старшая статс-дама, которая, согласно этикету, должна была сопровождать ее. Однако Мария Луиза в раздражении отмахнулась и одна стремительно шествовала через все коридоры и залы, отделявшие ее покои от покоев короля. По пути перед ней расступались лакеи, вытягивались в струнку и брали на караул стоявшие у дверей офицеры, раскланивались встречавшиеся придворные – и все с любопытством отмечали признаки гнева в чертах Ее Католического Величества.
Вскоре следом за королевой в глубокой задумчивости и совсем не так стремительно проследовал в том же направлении премьер-министр дон Мануэль Годой. Двор замер в ожидании развязки очередного скандала между королевой и ее любимцем. До сих пор все подобные ссоры заканчивались для дона Мануэля только новыми почестями и титулами.
* * *Истинной причины гнева королевы во дворце не знал никто, кроме ее духовника. Старая лиса де Мускис вчера вечером встретился с Деспигом, и, едва веря такой удаче, они тщательно обсудили невероятную новость, сообщенную служкой домашней часовни дона Мануэля Годоя. Деспиг не зря постоянно твердил мальчику о всевозможных подарках и продвижении по церковной лестнице, если тот сможет добыть что-нибудь интересненькое о том, что творится во дворце герцога Алькудиа. И вдруг сказочное везение, о каком Деспиг не смел и мечтать: герцог Алькудиа тайно обвенчался в своей домашней церкви с метреской Пепой Тудо! Какой подарок в преддверии ответа из Рима! Теперь Мария Луиза отдаст им этого борова без всякого сожаления.
– Но, быть может, все-таки лучше сначала дождаться ответа от Папы? – осторожно спросил де Мускис. – И тогда уже сразу одним ударом…
– Я думаю, дорогой мой дон Рафаэль, ждать ответа Папы нам не надо. Ты только сумей подать королеве это известие так, чтобы в порыве ревности она тут же отстранила его от двора. А уж тут-то мы его и подхватим. Когда же дело закрутится, остановить его будет весьма трудно. Даже королеве, которая, конечно, остынет и пожалеет о своем поступке. А там, глядишь, придет и ответ из Рима.
– И тогда уже финита ля комедия, – довольно подхватил де Мускис.
– Homo proponit, sed Deus disponit![48] – в тон ему пропел архиепископ, даже не подумав о том, что эта истина равно справедлива и для них самих.
Оба святоши одновременно прыснули в кулаки; один в круглый и мощный, другой же в маленький и сухонький.
* * *Мария Луиза, проходя бесконечными полутемными коридорами к королю, у которого не бывала уже много месяцев, лихорадочно обдумывала линию своего поведения. Добиться от короля согласия на заточение этого негодяя в государственную тюрьму в Памплоне? Или отправить его, как положено благородному преступнику, в Северную Африку? Но ведь Карлос может не согласиться даже на простую отставку! Этот неутомимый сатир имеет над королем власть не меньшую, чем надо мной… Боже мой, отчего? Что хорошего находит король в этом глупом животном? Карлос, разумеется, снова начнет твердить, что мы помиримся, не пройдет и полдня…
Слезы стояли в глазах королевы, в любой момент готовые брызнуть. Но Мария Луиза недаром была итальянкой, гордой и мстительной, прошедшей школу лжи Пармского двора, наконец, королевой, – и она держалась. Она шла с пылающим лицом сквозь шпалерные, гостиные, коридоры и залы, не замечая никого вокруг, и ее изворотливый ум, ум оскорбленной женщины и правительницы, измышлял наиболее точный удар.
Сказать ему просто, что этот кабан Мануэль тайком женился на своей девке? Карлос только посмеется и все, или еще того хуже – скажет, что наш друг действительно не женат и давно пора бы остепенить молодца… И тут вдруг в голове королевы пронеслась гениальная мысль. Она даже остановилась и, быстро оглядевшись, привычно нашла причину своей внезапной остановки прямо посередине комнаты. В следующее мгновение уже более спокойным шагом королева подошла к висевшему на стене зеркалу.
Машинально поправив прическу и взмахнув веером, чтобы остудить пылающее лицо перед тем, как предстать перед королем, она, словно во сне, монотонно повторила про себя несколько раз: «Женат – неженат, женат – неженат…»
Когда Мария Луиза с королевской грацией и едва ли не с улыбкой на увядших губах вошла к королю, ее план мести созрел уже окончательно.
Глава шестая. Королевские салески
От мягкой руки падре Челестино успокаивающе пахло ладаном и миндальным мылом, и Клаудиа постаралась забыть сейчас обо всем, кроме этих тонких пальцев на своем плече. Она почти не понимала, что говорит ей падре и куда он ведет ее. А тем временем они уже вышли на улицу, миновали задворки домов в переулке и оказались в тенистом церковном саду, примыкавшем к ризнице церкви Святого Иеронима. Там Челестино, наконец, отпустил ее плечо и усадил девочку на одинокую скамью среди затейливо подстриженных кустов. Только тут Клаудита заметила, что она вышла из дома в чем была: в простой юбочке без корсажа и полотняной рубашке без платка.
– Посиди тут, сейчас я принесу тебе шаль, – все с тем же серьезным и озабоченным выражением лица сказал Челестино и скрылся в ризнице.
По всей округе все более и более отчетливо разливался свет утра; Клаудиа уже видела каждый лист и каждый камешек на дорожке так, словно она смотрела через круглое увеличительное стекло, которое однажды показал ей отец. Отец… Но теперь нет ни отца, ни матери, ни брата… Незамечаемые ею слезы потекли из глаз, и в тот же момент из дальнего конца сада послышались легкие неспешные шаги. Девочка испуганно вскочила, прислушиваясь, но уже в следующий момент на повороте из масличной аллеи показалась одинокая широкая фигура в монашеском облачении. Она словно плыла по воздуху и протягивала к девочке руки. Клаудиа быстро опустилась на колени и забормотала «Аве». Но теплая, пахнувшая точно так же, как и у падре Челестино, рука легко потянула ее вверх.
– Твое благочестие похвально, дитя мое, – пропел низкий женский голос. – Встань.
И Клаудиа снова оказалась на скамье лицом к лицу с точной копией Челестино, но в женском облике и в одеянии королевской салески.[49]
– Я знаю о твоей печали, – продолжила монахиня, внимательно вглядываясь в заплаканное лицо. – Но Господь посылает нам испытания лишь для того, чтобы мы поднимались все выше и выше. Перед тобой открывается великий путь…
Опытным взглядом мать Памфила, настоятельница монастыря святого Франциска и родная сестра куре Челестино, уже увидела в чистом, строгом и одновременно страстном личике сидящей перед ней девочки то, о чем втайне мечтает каждая настоятельница – возможную святую. Святую для собственного монастыря. Святую, которая становится таковой без всяких усилий. Это обычно происходит легко и незаметно. В то время как другие идут к вершинам шаг за шагом, обрушивая камни и стирая в кровь ноги, таким вот крошкам бывает дано подняться одним лишь движением, дыханием, мыслью. И эта девочка из таких. Она с легкостью может стать святой, обрести настоящую благодать без самоистязаний и аскетизма. И настоятельница уже явственно видела в заплаканных невыспавшихся темных глазах девочки скрытый жар этой благодати. Как хорошо, что она не поленилась откликнуться на просьбу брата и приехала в такую даль, дабы на время забрать несчастного ребенка. Теперь она не отдаст девочку никому. Ведь святая, а на первых порах даже примерная послушница – это не только слава, это настоящая реклама монастыря, оправдание его существования. Как и все монастыри Испании, монастырь Святого Франциска знал и конкуренцию, и финансовые кризисы. Его богатые покровительницы, в число которых входила даже Франсиска де Салес, герцогиня де Уэскара[50], могли в любой момент отвернуться от него и начать отдавать свои пожертвования в другое место. А из этой малышки можно сделать многое… «Какая удача! – подумала она. – И отец неизвестно где… А старуха-дуэнья будет молчать». Вслух же аббатиса сказала уже более приземленным, чем раньше тоном:
– Сейчас тебе надо прийти в себя и молиться о матери, которая умерла, не раскаявшись и не приняв святого причастия. Я возьму тебя с собой, и ты сможешь выполнить свой долг сполна.
Из ризницы вышел падре Челестино с большой шалью в руках.
– Ну, вот, вы уже и познакомились. – Он заботливо укутал Клаудиу. – Небо да хранит тебя, моя девочка. В руках матери Памфилы ты будешь в безопасности. Карета уже готова.
Коаудиа в ужасе подняла на Челестино глаза.
– А Гедета? Мама? Я даже не успела с ними попрощаться!
– Не все в нашей власти, Клаудита, – вздохнул падре.
– А мои книги?!
– В монастыре достаточно книг.
– А кукла?! – потеря отцовского подарка, которым она так и не успела насладиться, отозвалась в душе девочки настоящей болью.
– Время кукол, к сожалению, закончилось, – отвернулся падре, и Клаудиа вдруг отчетливо поняла, что еще крепче сжавшая при этих словах ее ладошку рука матери-настоятельницы не оставляет ей никаких шансов.
– А что скажет отец, когда вернется?
– Я все объясню ему. Ну, ступайте. И да хранит вас Бог. – Челестино поднял руку в благословении, перекрестил их и стоял неподвижно до тех пор, пока две фигуры не скрылись за маслинами, где находилась потайная калитка.
* * *Всю долгую дорогу до монастыря, стоявшего высоко в горах, откуда берет начало Арьеж, Клаудита запомнила только как душераздирающий скрип колес, которые нарочно не смазывали, чтобы их оглушительный визг оповещал всех о приближении кареты и заставлял расступаться более простые повозки. Иногда, чтобы размять ноги, они с настоятельницей выходили на дорогу и останавливались перед странными пирамидками из камней с крестами наверху или досками, с нарисованными на них картинами гибели тех, кто тут лежал. Клаудиа пристально вглядывалась в изображения понесших лошадей или разбойников, боясь обнаружить под одной из таких досок отца – и с облегчением вздыхала до следующей остановки. Она думала, что настоятельница будет заставлять ее беспрестанно молиться, но мать Памфила, наоборот, разговаривала с ней совершенно о простых вещах: цветах, животных, домашних заботах. На следующий день разговор зашел и о чтении.
– Так ты умеешь читать? – осторожно спросила аббатиса.
– Да, амма. На испанском и греческом.
Святая, говорящая на греческом! Несомненно, у малышки способности к языкам, и если обучить ее еще латыни и французскому, цена ее поднимется во много раз. Сама будучи женщиной образованной, Памфила прекрасно знала, какая редкость обнаружить в своей стране ребенка, тем более, девочку из небогатой семьи, знающую не то что грамоту, но даже мертвый язык. Испания была поголовно неграмотной. Даже многие придворные дамы не умели в те времена слагать буквы в слова…
Монастырь поразил Клаудилью своей прозрачной чистотой. Он стоял почти на краю высокой скалы, и снежные вершины струили на него свой тихий неземной свет. Бесшумные монахини, словно тени, сновали по его холодным переходам и кельям, и даже колокола звонили здесь тонко и печально. Это была обитель белизны.
Встретили девочку вполне радушно и немедленно накормили изысканными кушаньями, которых она никогда не ела дома. Потом она перешла в руки матери-кастелянши, сухопарой и желчной.
– Где твои вещи?
– У меня ничего нет.
– Неужели у тебя нет никаких украшений? – удивилась кастелянша.
– Нет. А разве в монастыре нужны украшения?
– Если ты не захочешь принять пострижения и уйдешь однажды, тебе все это могло бы понадобиться.
– Когда мне понадобится уйти из монастыря, я обойдусь и без украшений, – почти грубо ответила девочка.
– Дитя мое, – сурово проговорила старуха, – запомни отныне раз и навсегда, в стенах этой обители никто не имеет права говорить так решительно и высокомерно. Правила нашего ордена являются обязательными для всех нас, даже для матери Памфилы. Послушание – наиболее благородная добродетель всякого христианина.
Затем кастелянша положила перед Клаудией карандаш и велела перечислить все вещи, которые девочка хотела бы забрать из своего дома.
– Твой отец был благородным идальго, и у вас дома обязательно должны быть какие-нибудь ценности. Если ты пожелаешь однажды уйти из монастыря, тебе все будет возвращено.
В ответ Клаудиа только потуже запахнула шаль, которую ей дал куре Челестино и молча отодвинула в сторону карандаш…
* * *Ей отвели небольшую, изящно меблированную комнату рядом с покоями настоятельницы, которая показалась девочке даже роскошной после убогой обстановки родного дома. Но только тут, среди выбеленных стен, сидя у окна, из которого открывался вид на прекрасную поляну, перерезаемую слабым ручейком зарождавшейся реки, она поняла вдруг всю безысходность своего нынешнего положения. Этот ручеек оказался единственным живым проявлением среди нагроможденных повсюду камней, и Клаудиа неожиданно совсем не по-детски окончательно ясно осознала, что она в тюрьме. Ей вдруг стало до боли отчетливо ясно, что больше она никогда уже не пробежит по живому лугу, не прильнет к теплому боку овцы, не пропоет веселой песенки, а главное, никогда больше не увидит отца – потому что ее отсюда просто не выпустят, и никто никогда не узнает, где она. Из нее сделают такую же бесплотную тень, какие она видела сегодня в трапезной. И крик животного ужаса вырвался из груди девочки, ибо страшно в десять лет лишиться всех близких, но еще страшнее потерять возможность радоваться солнцу и оставаться самой собой.
Всю эту долгую весеннюю ночь простояла Клаудиа у раскрытого окна, загнанным волчонком мечась в поисках выхода. Благородная древняя кровь предков не позволяла ей больше кричать и плакать – она взывала к действиям, поскольку только делом можно заглушить снедающий душу ужас. И к утру, когда ее келью стал заливать розовый и нежный свет, у окна стоял уже другой человек: человек, твердо решивший не сдаваться. Для начала девочка решила добиться всех мыслимых и немыслимых высот, какие может предоставить монашеская жизнь. Она станет примерной послушницей, она выучит все, что можно – свойства растений и трав, языки, искусство ходить за ранеными – она станет аббатисой, святой, кем угодно… Но она добьется возможности покидать этот склеп и найдет отца.
Скоро Клаудита, названная по монастырским обычаям сестрой Анной, поняла, что начать свое восхождение по лестнице монастырского успеха совсем не трудно. Что может быть легче механического телесного послушания, послушания трупа, когда дух свободен и тверд? Послушание – надежнейшее оружие, а тайна – надежнейшее убежище. Девочка безукоризненно выполняла все распоряжения, исходили ли они от матери Памфилы или от последней сестры-привратницы, но никто, глядя в эти горящие глаза, обрамленные голубоватым апостольником, не смел требовать от нее большего, чем она отдавала им. Кроме того, пережив первое, самое трудное время заточения, Клаудиа научилась находить определенное удовольствие в гулких кельях, в маленьких, густо насаженных во дворе гвоздиках с запахом перца, в строгой одежде, во времени, отмеряемом ударами колокола, в потоке прекрасных спокойных молитв, в полете голубей, выпускаемых в полдень, в натертых до блеска плитах пола, во всей этой бесконечной пустыне, которую во что бы то ни стало надо пройти… К тому же, поначалу в силу своего возраста Клаудиа еще не была втянута в те подспудные интриги, которые процветают в любом замкнутом людском сообществе, да и настоятельница, лелея свою тайную мечту, пока еще давала девочке относительную свободу. В конце концов, благодать дается не размышлениями над божественными таинствами, а Божиим откровением, которое может воспринять только открытая, не закосневшая во грехе душа. И Клаудии разрешалось собирать травы на склонах гор и не умерщвлять плоти так, как двум сотням ее товарок.






