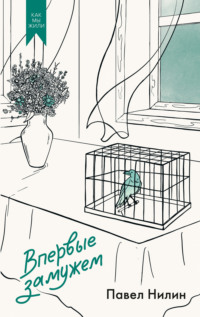Полная версия
Впервые замужем (сборник)
– Вон что? – почти сердито засмеялся секретарь и опять сел на стул, пристально вглядываясь в собеседника. – Вы, стало быть, философ?
– Ну да, – засмеялся и Семен Дементьич, – вы в точности угадали. Я философ и есть. А что ж мне остается на старости лет? Все раздумываю над разными делами. Уже помирать скоро. И вот гляжу, как идет вокруг меня жизнь, и хочу угадать, как она дальше пойдет. Не чужая она все-таки для меня, эта жизнь. И моя капля в ней есть. И моя кровушка, в двух войнах пролитая…
– Это все так, – погладил скатерть на столе секретарь. – А что касается Василия Добрякова, то надо прямо сказать, вы в нем ошибаетесь. Добряков – человек политически проверенный. Это наш человек. До корней волос…
– Все люди наши, – сказал Семен Дементьич. – Ни от кого, я считаю, отказываться не надо. Но корни у человека не только в волосах. И политически если человека проверять, так его надо со всех сторон оглядывать. Со всех сторон изучать. И показателей для этого дела найдется много. Ни в какую анкету они не впишутся. Бумаги не хватит. А насчет Добрякова я с Варюшкой поговорю. Мне это ничего не стоит. Я поговорю. Но будет ли толк какой – не знаю. Этого угадать никак нельзя. А вы, я советую, галочку пока не ставьте. Галочку еще рано ставить…
– Какую галочку? – удивился секретарь.
– Ну, эту галочку, какую вы ставите в бумагах, в списке. Было, мол, такое личное дело Добрякова и Вари Лугиной. Мы, мол, комсомольская организация, вмешались в это дело и поправили. Поправить это дело не так-то просто…
– Вы, может быть, считаете, что его и поправить нельзя? – спросил секретарь.
– Почему нельзя? Поправить все можно, – опять уклончиво ответил Семен Дементьич. – Но качество требуется. Во всяком деле требуется качество. И в семейной жизни тоже. Даже тем более. А я с Варюшкой поговорю. Почему не поговорить? Я не только поговорю, я даже послушаю, чего она скажет. Послушать – это, на мой взгляд, даже много важнее, чем поговорить… И вы послушайте, что вам скажет Добряков, если он вам откровенно скажет… А галочку, я советую, пока не ставьте…
Секретарю комсомольской организации не понравился словоохотливый Семен Дементьич. Секретарь так больше и не зашел к нему.
Добряков спустя полгода женился на шустрой и курчавой Кате Потехиной.
Варя же до сих пор не вышла замуж.
А жаль…
Москва, зима 1936 г.
Ближайший родственник
У подъезда гудел автомобиль. Шофер, должно быть, нервничал. Волков торопливо одевался. Он проспал сегодня. Открыв форточку, он сказал: «Я сейчас, Иван Прокофьевич». И, выйдя в переднюю, стал надевать шляпу, пальто, калоши.
Новые калоши надевались очень туго. Волков с трудом вбил ногу в первую и услышал звонок.
У дверей стоял почтальон.
– Вам телеграмма.
Волков вскрыл ее, прочел и, так и не надев вторую калошу, вернулся в кабинет.
Нинка думала, что папа не слышит автомобильных гудков, побежала ему сказать и, ворвавшись в кабинет, увидела, что папа плачет.
Большой, широкоплечий папа сидел в пальто, в шляпе, в одной калоше и плакал, не утирая слез. Это зрелище испугало Нинку. Она побежала к матери.
– Мама, мама…
Татьяна Федоровна, взволнованная, заспанная, шурша узбекским халатом, вошла в кабинет, взяла из рук мужа телеграмму, прочла ее и тоже заплакала. И, глядя на них, заплакала Нинка.
В телеграмме было сказано: «Мама умерла тчк приезжай скорее тчк папа».
Волков три раза перечел телеграмму. Он все еще думал, что произошла какая-то ошибка, что почтальон, может быть, перепутал адрес. Он все еще не хотел верить, что умерла именно его мать, эта маленькая, сухонькая старушка с коричневым скорбным лицом, которую он видел в последний раз несколько лет назад и с которой собирался увидеться в этом году летом. Да, в этом году он собирался поехать к матери, привезти ее в Москву и выполнить наконец все обещания, данные еще в детстве.
В детстве Волков часто жалел свою мать. Она стирала белье чужим людям, ходила чужим людям мыть полы. Уходила из дому чуть свет и возвращалась затемно. И ночью, дома, продолжала работать при свете керосиновой лампы, стирать и шить, починять и гладить.
За всю жизнь свою, беспокойную и торопливую, она, как говорится, не присела ни разу, не съела ни одного сладкого куска, приберегая их для сына, Витеньки, или для мужа, Матвея Кузьмича.
Муж служил швейцаром в Дворянском собрании. В свободное от службы время он сапожничал на дому – принимал заказы на починку. А когда заказов не было, ходил по дворам – чистил нужники, носил воду, колол дрова. Заработанные деньги шли на сберегательную книжку.
Затаенная мечта о собственном домике с огородом и с садиком не давала спать Матвею Кузьмичу. Он даже в снах своих, тревожных и торопливых, видел собственный домик. И ради домика этого, существовавшего пока только во сне, жена зимой и летом ходила в одних и тех же ботинках, в одном и том же платье и старалась есть не дома, а у хозяев, где стирала белье, мыла полы и домовничала.
Виктор в детстве жалел свою мать и, глядя на руки ее, худенькие, тоненькие, в синих жилах, говорил:
– Вот подожди, мама, я вырасту, ты посмотришь, как я буду тебя кормить. Работать ты не будешь. Ты в театр все будешь ходить, конфеты есть.
Мать смеялась и, счастливая, плакала.
– Ты учись только, Витенька, – говорила она, просветленная, в слезах. – А там увидим.
Виктор учился в гимназии. Отец хотел, чтобы сын его вырос таким же господином, как те, которым отец подавал пальто. Скупой, прижимистый, отказывающий себе во всем, он ничего не жалел для сына. Сын учился в гимназии вместе с барскими детьми. Учился хорошо, прилежно. Он, наверное, окончил бы ученье с золотой медалью, как пророчили ему, если б на шестнадцатом году его не исключили из гимназии с волчьим билетом. Исключили за какую-то, как говорил отец, «неподходящую» речь на сходке.
Мать заметно постарела после этого случая. Матвей Кузьмич ходил угрюмый. А Виктор, устроившись рабочим на кожевенный завод, продолжал говорить матери:
– Ты только подожди, мама. Я вот подучусь на этом деле, и мы хорошо заживем. Вот посмотришь.
– Ничего, Витенька, – говорила мать, – ничего, все устроится как-нибудь.
И она крестила сына, сокрушаясь втайне, что сын не похож ни на нее, ни на отца. Они были смирные, забитые люди, а он рос какой-то неугомонный, неукротимый. «В дедушку он, наверно, такой-то, Господь с ним», – боязливо думала мать, вспоминая отца своего, волжского грузчика, пьяницу и буяна.
Но и дедушка, может быть, не позволил бы себе того, что позволял Виктор. На кожевенном заводе он организовал забастовку, пошел просить поддержки у других заводов и угодил в тюрьму. Где уж теперь было думать, что сын вырастет благородным господином! Надежды рухнули окончательно.
И родители думали только о том, как бы вызволить сына из тюрьмы. Матвей Кузьмич ходил кланяться в ноги разным господам, просил слезно, клялся вечно Бога молить. Но сын был крепко посажен, и ни просьбами, ни молитвами невозможно было сократить положенный ему изрядный срок.
Матвей Кузьмич уже впал в отчаяние, перестал хлопотать, перестал даже с прежней верой молиться за сына, когда сын неожиданно сам помог себе.
В самый знойный праздничный день, в разгаре лета, он бежал из тюрьмы на глазах у всего караула, чем прославил себя и наделал в городе много шума.
Поздней осенью, когда разговоры о смелом его побеге утихли немного и жители стали постепенно забывать о нем, он явился к родителям нежданно, темной ночью, оборванный, грязный, исхудавший, рассказал без подробностей о своих делах, похлебал нежирных щей, помылся, взял рубаху, штаны и ушел в ту же ночь неизвестно куда. И надолго ли, тоже неизвестно.
В родном городе, в Сызрани, он опять появился только в революцию. Выступал на митингах, ругал царя и еще кого-то ругал. Голос у него был звонкий, сильный. И весь город, небольшой, вечно тихий, слушал его, волнуясь.
В городе помнили его, говорили:
– Это Витька Волков, Матвея, швейцара, сын. Политический.
И прибавляли при этом не то в осуждение, не то в похвалу:
– Ох и бедовый парень!
Отец и мать не ходили слушать его речи. Они сидели дома, ожидая новых несчастий. Сын приходил домой охрипший, усталый. Он по-прежнему хлебал нежирные щи и, как прежде, уговаривал мать:
– Ты только подожди немножко. Ты не думай, что вечно так будет. Вот посмотришь, как все устроится…
Он всегда разговаривал больше с матерью. С отцом он говорил очень редко и мало, и видно было, что он не любил отца.
В начале зимы он снова уехал из города и сказал матери, что едет на фронт. На Гражданскую войну.
– Буржуазию уничтожать еду, – сказал он весело, и зубы, белые, блеснув в улыбке, осветили загорелое, исхудавшее его лицо.
– Ты слышишь, Матвей Кузьмич? – сказала мать. – Витенька-то… на войну поехал…
Но отец ничего не сказал. В последнее время он уже не вмешивался в дела сына. Пусть делает что хочет. На войну – так на войну…
Эта война продолжалась почти пять лет. Волков-сын приезжал иногда на побывку. Мать стирала ему белье и одежду, а он, голый, сидел за печкой и, как в детстве, говорил:
– Подожди…
Мать ждала не чудес, не богатства, не роскоши, не хорошей еды, а спокойного житья, когда сын наконец вернется домой, осядет навсегда, может, женится и она будет качать его детей, своих внуков.
Но после войны сын заехал домой всего на три дня и снова уехал.
Жил теперь он в далеких краях, где-то в Западной Сибири. А потом заехал еще дальше, на Дальний Восток. Он работал там и учился, был директором завода и студентом. О делах его родители знали только по письмам, которые писал он регулярно. И так же регулярно он присылал им деньги.
Дела у него как-то менялись, ухудшались или улучшались, но сумма денег, посылаемых родителям, оставалась неизменно крупной. Он старался только увеличить эту сумму. Он хотел, чтобы старики хоть на закате дней своих пожили по-человечески, чтобы мать не отказывала себе в сладком куске, чтобы одевалась почище, как не могла одеваться в молодости.
Но, посылая деньги родителям, сын знал наверное, что они по-прежнему скупятся и даже не едят как следует, что отец по-прежнему урезывает себя и мать, проводит жесткую экономию и, хотя теперь у него есть свой домик в три окна и свой огород, он продолжает копить деньги, якобы на «черный день», который, может быть, никогда не наступит.
Эта неистребимая жадность отца, потомственного нищего, мечтающего разбогатеть, безумная страсть, которой подчинен был старик с молодых лет, чуть ли не с детства, возмущала сына.
И, жалея мать, вынужденную во всем покоряться мужу, отказывать себе во всем, сын стал думать, как бы это перевезти стариков на Дальний Восток. Здесь отца удалось бы взять под особое наблюдение, ограничить его власть над матерью. Мать пожила бы наконец в свое удовольствие.
Этот замысел сын вынашивал долго. Но замысел этот было трудно выполнить. Сын был занят необыкновенно. Он переезжал из города в город, и дела, неотложные, важные, волновали его больше, чем забота о матери.
Он думал, что мать подождет, что если не в этом году, так в будущем он обязательно заберет стариков к себе и все устроится в лучшем виде. Он спешил постоянно, каждый день, каждый час, и в этой спешке проходили годы.
О родителях Виктор Матвеевич снова стал думать, когда его перевели в Москву. Он жил теперь в большой квартире, в которой свободно вместе с ним, с его семьей, могли поселиться и родители. Он написал им об этом, пригласил приехать. Но они отказались.
Отказался, вернее, отец. Он заявил, что у него дела, хозяйство – домик, огород, коза и куры. Он уехать никак не может, а если мать желает, пусть едет. Он ее не удерживает.
Но мать самостоятельно не могла отправиться в Москву. За нею надо было приехать. И Виктор Матвеевич решил, что за матерью он поедет сам. Он сам привезет ее в столицу, сам будет водить ее в столице по театрам, катать на автомобиле, показывать достопримечательности. Словом, сделает все, чтобы выполнить давние свои обещания.
Это ему теперь ничего не стоит. Вот только бы выбрать время…
Но свободного времени в последние годы у него было все меньше и меньше. Он даже в отпуск ездил не каждый год. И каждый год он думал, что именно в это лето поедет в Сызрань. Ведь это же тут, под боком у Москвы…
Через две недели Волков наконец должен был поехать. Он уже подготовил себя к этой поездке, стал мечтать о скорой встрече с матерью, стал, как в детстве перед каникулами, считать дни. И вдруг принесли телеграмму: она умерла.
Волков в четвертый и в пятый раз перечитывал телеграмму. Но смысл оставался прежним. Она умерла. Умерла его мать, которая сорок лет назад родила сына, вынянчила, выкормила, вырастила его, как смогла. И вот теперь, когда сын ее стал известным человеком, директором крупного треста, она умерла, ни разу, быть может, не отдохнув как следует – ни разу за всю свою беспокойную, торопливую жизнь.
Большой, широкоплечий, седеющий мужчина сидел в кожаном кресле и плакал. Выражение лица у него было угрюмое, злое. Он злился на себя. Неужели за все время он не мог выбрать двух недель, чтобы съездить к матери? Неужели, наконец, нельзя было поручить кому-нибудь съездить к ней и привезти ее в Москву?
Можно было. Конечно же, можно было.
Волков злился и плакал. И рядом с ним плакала его жена. Она плакала, больше встревоженная печалью мужа, чем собственным чувством к свекрови, которой, как ни странно, ни разу не видела и потому не могла сказать о ней ничего плохого и ничего хорошего.
В комнате тикали часы. За окном цвела черемуха. У подъезда гудел автомобиль, ожидая директора треста.
Но директор не слышал его. Он сидел в кожаном кресле, опустив седеющую голову, и на какое-то время весь мир замер в его сознании. Жизнь остановилась.
Волков находился в горестном оцепенении. Потом встал, застегнул пальто и пошел в переднюю, чтобы надеть вторую калошу.
В передней он взглянул на себя в зеркало, увидел влажные следы от слез и покраснел, устыдившись. «Нервы», – как бы оправдываясь перед самим собой, подумал он.
И вышел на улицу.
В тресте ждали его на заседание. Но Волков сказал, что заседать сегодня не может.
– У меня умерла мать, – сказал он. – Я должен сейчас же поехать в Сызрань.
Заместитель директора поднял брови в знак удивления и сочувствия.
Через полчаса курьерша треста несла в редакцию траурное объявление, в котором дирекция, партком, местком и сотрудники выражали свое соболезнование директору треста товарищу Волкову Виктору Матвеевичу по случаю смерти его матери Екатерины Петровны.
А Волков в это время ехал на вокзал.
Время наконец нашлось. Волков наконец выбрал время, чтобы поехать в Сызрань. Он сидел в купе мягкого вагона и думал о предстоящей встрече с отцом. Он представлял себе в подробностях, как отец встретит его, улыбнется через силу, приподняв тяжелую верхнюю губу, сделает жалкое лицо, что никак не идет к его огромному росту. И сына заранее коробило от этих рабских, холуйских ужимок отца.
Виктор с детства привык стесняться его. В гимназии сын старался улизнуть куда-нибудь, спрятаться подальше, когда видел из окна, что в гимназию идет его отец. Сын стеснялся не того, что отец его швейцар, бедный человек, а того, что отец готов унижаться перед всяким, даже перед мелкой сошкой, лишь бы вымолить какую-нибудь льготу, пустяк какой-нибудь.
Все это видели, всем это было смешно, и гимназисты смеялись не только над отцом-швейцаром, но и над сыном.
Волков помнит, как однажды отец его увидел в дверях гимназии законоучителя, отца Григория Горизонтова, и, подойдя к нему под благословение, поцеловал при всех полу засаленной его рясы.
Этот поступок смутил даже отца Григория.
– Ну что ты! – сказал он. – Как можно…
– Так ученики встречали Христа, – сказал почтительно Волков-отец и приподнял по привычке верхнюю мясистую губу, что должно было означать улыбку. – Вы наш учитель, батюшка, благодетель…
Волков-сын после этого случая готов был удавиться.
В другой раз, когда, расшалившись во время перемены, он чуть не опрокинул кипарисовую тумбочку в коридоре, поп поймал его за руку и сказал сердито:
– У такого благочестивого, богобоязненного отца воспитываешься, а сам какой разбойник…
– Плохо ты воспитываешь своего сына, Матвей, – сказал законоучитель, когда отец снова явился в гимназию. – Озорует. Остолопом растет.
– Я укажу ему, – пообещал отец. – Вы только, батюшка, не оставляйте его вашей милостью. А я укажу ему…
И Виктору в тот же вечер была задана знатная порка.
Этой порки никогда не мог забыть не только гимназист, но и директор треста, хотя отец порол сына не однажды и, может быть, еще более сурово порол, чем в тот раз. Это была самая несправедливая порка, и забыть ее было трудно.
Волков снова вспомнил ее и снова возненавидел отца, как в детстве.
И ненависть, горячей струей подступившая к горлу, детская ненависть, неожиданно пробудившаяся в сердце взрослого, пожилого мужчины, на минуту потушила все иные чувства, заставила даже забыть о смерти матери, о горечи, связанной с ее смертью.
Виктор Матвеевич вдруг ощутил непривычную мальчишескую ярость в теле, стремительно встал, открыл окно и зашагал по купе, потом по коридору взад-вперед, нервно пощелкивая пальцами.
В вагоне было много пассажиров. По вагону ходил с совком и веником пожилой проводник, выгребая окурки из пепельниц. Но Волков не видел, не замечал никого, погруженный в воспоминания о детстве, о ранней юности, полной щемящих огорчений. Именно огорчения и обиды приходили ему сейчас на память раньше всего и воспаляли сердце с неожиданной силой.
Побродив по коридору, Волков опять залезал на верхнюю полку и подолгу лежал на спине без движения, вдавив голову в жиденькую подушку и упираясь ногами в стенку.
Ветер рвал занавеску и врывался в купе, шевеля газету на полке. Запахи талой земли, прошлогоднего листа и зеленеющей травы наполняли вагон.
И вместе с ними приходило успокоение, такое же неожиданное, необъяснимое, как внезапная вспышка ненависти, запоздалой и, пожалуй, смешной.
Волков переворачивался на бок, подложив ладонь под курчавую голову, и все думал, думал. Вагон качало, подбрасывало. И мысли шли такие же неровные, как качка вагона.
Виктор Матвеевич снова думал об отце, но уже не так непримиримо. Все-таки отец учил его. Швейцар, собирающий пятаки и гривенники, хотел сделать сына своего образованным. Добивался этого, как мог, как умел.
И порол-то он сына, может быть, потому, что хотел его сделать лучше, умнее. По-своему хотел ему счастья. Воспитывал его по-своему. Неужели теперь надо ненавидеть неграмотного, жалкого старика, сводить с ним старые счеты?
Виктор Матвеевич подумал, что старика сейчас, пожалуй, надо приласкать, надо сказать ему что-нибудь такое хорошее, подбодрить его надо, поддержать.
И неожиданно даже для себя, после горьких воспоминаний, после ненависти, разбуженной этими воспоминаниями, сын почувствовал нежность к отцу, пожалел его и, укачиваемый непрерывной дрожью вагона, заснул.
В Сызрань он приехал в конце дня.
Была хорошая, солнечная погода.
Пассажир взял маленький чемоданчик и, не торгуясь, сел в извозчичью пролетку.
Извозчик удивленно посмотрел на него. Потом хмыкнул, чмокнул, озабоченный. И косматая сонная лошаденка, вздрогнув, потянула облезлый экипаж.
Извозчик вез важного пассажира. Пассажир сидел на кожаной подушке, нагретой солнцем, и рассеянно смотрел по сторонам. Он въезжал в родной город, и смутное чувство радости, грусти и сожаления волновало его.
Оно волнует каждого входящего в город свой после стольких лет отсутствия. После странствий, увлечений, разочарований и побед.
Девушки, любившие нас, уехали, вышли замуж, постарели. Дома и заборы, на которых злоупотребляли мы грамотой, много раз сменили свою окраску. Выросли новые дома. Улицы, поросшие когда-то буйной травой, покрылись булыжником и асфальтом. Все изменилось как-то. И мы изменились.
Витька Волков, озорной швейцаров сын, стал директором треста. В этом нет, пожалуй, ничего удивительного. Это не удивляет и Волкова. Он привык. И все привыкли к этому.
Но только в родном городе, на знакомых улицах, где играли в детстве в чижика и в лапту, директор треста, сорокалетний человек, вдруг с особой силой почувствовал всю необычность и своеобразие собственной судьбы.
Сорок лет он прожил, как один день, без оглядки назад, без воспоминаний – все вперед и вперед. И только смерть матери задержала на мгновение стремительный бег его дней, заставила вспомнить прошлое.
Директор оглянулся на пройденный путь и удивился несказанно. Будто не он проделал этот путь.
– Извозчик, – сказал директор, строгий и нахмуренный, привыкший к быстрой езде, – что это она у тебя спит на ходу? А ну, подгони ее. А ну!..
– Сейчас, – с готовностью сказал извозчик и торопливо вытащил из-под сиденья кнут.
Лошаденка неожиданно перешла в галоп.
Экипаж со скрипом и грохотом въехал на пустынную улицу, заваленную трубами, цементом и бревнами.
В конце улицы, под железной крышей, освещенной солнцем, стоял маленький домик, как декорация. Окна в домике были открыты. Из окон доносилось церковное пение.
Извозчик сказал:
– Вот он самый и есть. Поют…
И кнутом показал на домик.
Волков вылез из пролетки, расплатился и пошел вдоль улицы. Церковное пение было неприятно ему. Он как-то не подумал раньше, что мать, наверное, будут хоронить по старому обычаю, с попом, и что ему, как сыну, придется стоять у гроба и выполнять безмолвно, из деликатности, весь этот чуждый ему теперь обряд.
Он прошел мимо домика.
Он надеялся, может быть, что обряд будет закончен до его прихода и он избежит неприятной встречи со священником.
Но в ту же минуту он подумал, что ходить так по улице неудобно, несолидно, что это мальчишество, и, вернувшись, остановился у окна отцовского домика.
В окно был виден синий дым от ладана и в дыму обеденный стол, на котором в гробу лежала покойница, окруженная горящими желтыми свечками, священник в подряснике и в епитрахили и десятка два людей, столпившихся у стола. Они молились, склонив головы.
Виктор Матвеевич смотрел на них в окно. И минуты две никто не замечал его.
Наконец Матвей Кузьмич, стоявший на коленях у гроба жены, поднял голову и увидел в окне незнакомого бритого мужчину. Мужчина был в галстуке, в сером костюме, без шляпы. Матвей Кузьмич поднялся с колен и вышел на улицу.
Мгновение они молча смотрели друг на друга, отец и сын. Потом отец пошел навстречу сыну.
– Витенька, – сказал он очень тихо и, обняв сына, заплакал.
Виктор Матвеевич тоже обнял отца и растерянно гладил его по плечу. При этом он заметил, что отец меньше его, ниже ростом. И отец, большого роста человек, тоже вдруг почувствовал себя маленьким в объятиях сына, ничтожным, слабым.
Когда они вошли во двор, отец виноватым голосом спросил:
– Тебе, может быть, неловко, Витенька… а? Что я попа-то позвал?
– Ну что ж делать, – сказал сын и вошел в дом.
На него пахнуло сыростью, затхлостью, запахом кислых щей и ладана, от чего запершило в горле. Он прошел в большую комнату, где лежала покойница, поклонился всем и встал в сторонке, у окна.
Священник ходил вокруг гроба и размахивал кадилом. Из кадила выглядывали, как зубы, раскаленные угли и вырывался струйками синий дым. Он все больше и больше обволакивал комнату и поднимался к потолку. В дыму было трудно рассмотреть лица людей и лицо покойницы.
Виктор Матвеевич не сразу узнал отца Григория Горизонтова. А когда узнал, опустил глаза. И священник тоже заметно смутился, увидев коммуниста Волкова. Священник как будто стал торопиться, стал бормотать что-то невнятное и ходил вокруг гроба, должно быть, не так уверенно, как несколько минут назад.
Волков, однако, не обращал на него никакого внимания. Запах ладана, кислых щей и еще чего-то резкого, режущего нос, снова напомнил ему детство, и он стоял в сторонке, у окна, угрюмый, усталый, погрузившись в далекие свои мысли.
Вокруг него шептались, показывали на него локтями и пальцами, подмигивали друг другу соседи. Но он ничего не слышал. Он не услышал даже, как окончилось богослужение. Отец Григорий Горизонтов подошел к нему.
– Доброе здоровье, Виктор Матвеевич!
Священник уже снял подрясник. В комнате было душно. Дым от ладана все еще плавал по комнате, уходя от раскрытых окон.
Виктор Матвеевич, запрокинув голову, развязывал галстук, расстегивал ворот рубашки, и рука, протянутая ему бывшим законоучителем, повисла в воздухе. Наконец Волков сказал:
– Здравствуйте!
В углу висела большая, почерневшая, старинного письма икона. У иконы горела, мерно покачиваясь, зеленая лампадка. И Волков смотрел не на священника, стоявшего перед ним, а на эту покачивающуюся лампадку.