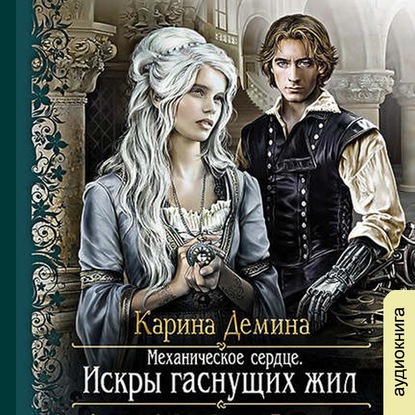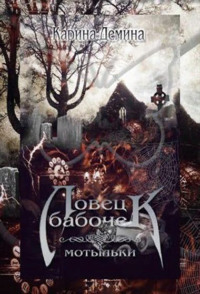Невеста

Полная версия
Невеста
Жанр: фэнтезилюбовное фэнтезиинтригиквестмагические мирысверхспособностиромантическое фэнтезиопасные приключения
Язык: Русский
Год издания: 2014
Добавлена:
Серия «Мир Камня и Железа»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу