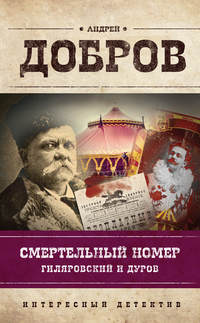Полная версия
Чертов дом в Останкино
– Которую?
Крылов пожал плечами.
– Черт его знает… Думаю, про ворону и лисицу. Ты знаешь, сколько написано басен про ворону и лисицу?
– Сколько?
Крылов начал загибать свои толстые пальцы:
– Эзоп. Потом Лафонтен, который переписал Эзопа. Потом Тредиаковский. Он, конечно, переписал Лафонтена, причем таким тяжеловесным слогом, что сам черт ногу сломит! Послушай:
Не€где во€рону унесть сыра часть случилось;
На дерево с тем взлетел, кое полюбилось.
Оного лисице захотелось вот поесть;
Для того домочься б, вздумала такую лесть…
– Да… – сказал доктор. – Мудрено.
– Потом за бедную ворону взялся Сумароков. Александр Петрович, царствие ему небесное, хоть и был талантливей Тредиаковского, но писал невыносимо длинные и неудобопроизносимые оды, трагедии, комедии. Он даже «Гамлета» написал! Своего! Не перевел Шекспира, а произвел на свет особенный собственный бред – высокопарный, но от этого не менее бессмысленный! Саша Пушкин считал его язык варварским и изнеженным. Но Сумарокову высокого стихоплетства было мало. Между вулканическими словоизвержениями он породил на свет четыреста карликовых уродца – басен. И среди них «Ворону и лисицу», начинавшуюся так: «И птицы держатся людского ремесла. Ворона сыру кус когда-то унесла». Сыру кус! Настоящий словесный циркус! Впрочем, то, что я накропал на ту же тему, не сказать, чтобы лучше. Проще – да. Мою басню удобнее читать, потому что при этом не случится вывих языка. Но она все равно глупая. И, кстати, там был не сыр, а ключ… Но это потом, не путай меня. Дойдет и до вороны с лисицей… Кстати, вы знаете, что ворон был другом Прометея? Нет? О чем я говорил? Да! Про места, которые мы не можем больше посетить. То, что люди умирают, – это понятно. Меня же всегда поражало, когда исчезают места, знакомые с юности. Там – стоял дом. А нынче его уже снесли. Ты всходил по его лестницам, спал в комнатах, говорил в коридоре, а теперь вместо – пустырь или какое другое здание. Там – текла река, на берегу которой ты сидел с книжкой, прислонясь спиной к стволу ивы. А теперь ни ивы, ни реки – забрана в трубу. Сверху положена мостовая, идут люди, стучат колесами экипажи… Раньше ты волновался из-за интриг могущественных царедворцев, а ныне они – слюнявые безумные старики, а история провернулась вокруг орудийного ствола, умылась кровью, пропиталась порохом и дымом сгоревшей Москвы. Глядь – а вокруг уже другой мир! И с какой заставы ни въезжай – никогда уже не попадешь в ту, допожарную Москву. Нет ее более. Сгорела, а потом отстроилась заново. Нет ее больше, старины седой. Нет больше и того Троицкого трактира, выстроенного вроде большого старинного терема с каменным первым этажом и деревянной надстройкой, с тремя острыми крышами, крытыми зеленой черепицей, и огромным внутренним двором, где отдельно стояла небольшая гостиница с чистыми комнатами. А внутри трактира – старинные залы, с резными стульями, с подушками, с расписным сводчатым потолком и стенами, обитыми тисненой кожей. С парсунами и витыми столбиками. С отдельными светлицами и мягкими коврами. Куда разбежались половые – все высокие, ловкие, в разноцветных шелковых рубашках? И Сила Мелентьев – старший половой – в бордовом кафтане и седой бородой как у святого… А уж какие там подавали блюда! Уха по-царски из семи рыб! И всё морских! С крупичкой! Семга, так тонко нарезанная, что сквозь нее смотреть можно было! И, уверяю тебя, мир сквозь такую семгу казался прекрасным! А грибы! Таких хрустящих груздей теперь не солят…
Крылов остановился и шумно сглотнул.
– Не надо вспоминать про это. Лучше о другом.
Москва. 1794 г.
Агата Карловна ела мало, но много кокетничала. Иван Андреевич, поначалу очарованный новой знакомой, не замечал этого кокетства, но к фазану начал чувствовать беспокойство, потому как Агата Карловна кокетничала однообразно, неизобретательно. Сначала она почти слово в слово повторила то же, что и на Тверской заставе – и про очаровательно легкое перо, и про напыщенных дураков, как будто заучила несколько фраз с чужого голоса. А потом ограничивалась только невнятными возгласами, трепетанием ресниц и оттопыриванием прелестной нижней губки. Иван Андреевич, даром что запивал каждую перемену большим бокалом вина, оставался почти в трезвом уме – именно по причине обильной закуски. Наконец он прямо спросил свою визави, что она думает по поводу его новой повести «Бедная Лиза»?
– О! – оживилась девушка. – Я проплакала всю ночь! Несчастная девушка! Впрочем, топиться в пруду, мне кажется, моветон! Но все равно, вы написали прелестную книжку, Иван Андреевич.
Крылов побагровел и зашлепал своими толстыми губами.
– Вам нехорошо? – встревожилась Агата Карловна. – Вас нужно уложить в постель и дать понюхать соли.
Она положила свою руку на мощную длань оскорбленного литератора.
– У меня есть в несессере. Он тут, я его оставила в экипаже. Только вам нужно лечь, Иван Андреевич, вы так плохо выглядите. Хотите, мы пойдем к вам? Вы же наняли комнату? Тут на заднем дворе есть гостиница. Вы можете… – Она скромно потупила глаза. – Совершенно располагать мной… Ваше здоровье драгоценно для всех нас.
Глаза ее влажно сверкали, как два коричневых камешка с речного берега.
Иван Андреевич взял себя в руки и попросил десерт – малину во взбитых сливках, покрытую инеем сахарной пудры. А к ней – вишневых вареников с тончайшим, почти прозрачным тестом в сладком молочном взваре, которые подавали с медовым хворостом – хрустящим снаружи и нежным внутри.
– Предположим, – сказал он, – книжка совсем не прелестна и даже не хороша.
Агата Карловна ожидала от него других слов. Она вдруг дернулась, как автоматон со сломанной пружиной, и откинулась на спинку резного стула.
– Не хороша? – пролепетала девушка.
– Дрянь книжка! – кивнул Крылов.
– Почему?
– Хотя бы потому, что не моя! – Иван Андреевич швырнул салфетку на стол и, нахмурясь, посмотрел на собеседницу. Он почувствовал, как Венерины чары рассеялись, открыв перед ним самую обычную кокетку – небольшого ума, да и небольшой красоты, если взглянуть здраво. Да, она была мила, но не более!
– Кто подослал вас, Агата Карловна, ко мне? – спросил Крылов. – Безбородко? Этот напыщенный слизень – известный ценитель красоток.
Девушка так яростно поджала свою нижнюю губку, что сделалась совершенно безгубой.
– А главное – зачем? – холодно продолжил Иван Андреевич. – Не успел я выехать из Петербурга – как уже такой аттансьон! Разве его светлости было мало моего честного слова не писать о персоне, которая ему благоволит? Вы что, милая, хотели через постель получить место моего личного цензора?
Агата Карловна вскочила, задев турнюром спинку стула. Скулы ее побелели. Потом она снова села и отвернулась к витражному окну.
В дверь светлицы просунулась белоснежная борода Силы Мелентьева. Он убедился, что гости не дерутся, и исчез.
– Вы не благородный человек, – сказала Агата Карловна. – Вы пользуетесь моей добротой и неопытностью. Я к вам со всей душой, а вы…
Крылов захохотал:
– Вот уж точно. Как шпионка вы совершенно неопытны. Может, на армейского офицера ваши штучки и произвели бы чарующее впечатление, но я… – Он вытащил сигару и подождал, пока половой в ярко-синей рубахе поднесет тонкую ольховую лучинку. – Я не таков. Так что? Кто подослал вас? Безбородко?
Агата Карловна пожала плечами:
– Я не знаю.
– Как не знаете? Такого не может быть.
– Мне просто приказали встретиться с вами в Москве и сделать так, чтобы… Я должна следовать с вами, куда бы вы ни отправились. И отсылать свои рапорты на адрес одной кофейни около дворца.
– Как называется кофейня?
– «Павлин».
– На чье имя? – спросил Крылов.
– Имя Аргус, – прошептала Агата Карловна.
Петербург. 1844 г.
– Аргус? – переспросил доктор Галер. – Стоглазый Аргус?
– Ну, это если верить Овидию, – отозвался Крылов. – Гесиод насчитал у Аргуса всего четыре глаза. А вот Нонн – уже тысячу.
– Трудненько было бы подобрать очки такому пациенту.
– Понятно, что Аргусом мог быть только один человек – начальник Тайной экспедиции Шешковский. Но он еще в конце весны наконец отправился пытать чертей в Аид. Прямо вслед за своим начальником, генерал-прокурором Вяземским. О, если бы Шешковский был жив, я прямо там, в «Большом самоваре», выложил бы весь свой обед в штаны, прямо как испуганная утка. Но преемника палачу Радищева еще не утвердили. Так что Аргус был для меня загадкой. Конечно, потом я все понял – загадка была не сложной, и решение лежало на поверхности, прямо там, в словах Агаты, но, вероятно, от сытного обеда мой мозг решил задремать, даже не оповестив меня самого.
Москва. 1794 г.
– И что же заставило вас стать шпионкой? Долги? Несчастная любовь? Скандальная связь? – спросил Крылов.
– Зачем вы спрашиваете?
– Из любопытства.
– Я не буду отвечать.
– Воля ваша, – кивнул Иван Андреевич. – Однако это было что-то очень серьезное, раз вы были готовы даже увлечь меня в свою постель.
Девушка вдруг покраснела и кивнула:
– Серьезное. Но я вам не скажу.
– Черт! – с досадой сказал Крылов. – Я уже начинаю жалеть, что отказал вашему предложению пойти понюхать соли. Может, после этого вы стали бы разговорчивее.
– Нет, – помотала головой девушка. – Раз уж вы раскрыли эту мою тайну, то пусть другая останется при мне.
Крылов молча посмотрел на нее.
– Так вы мне нравитесь больше, – сказал он. – Так вы выглядите намного умнее. Если бы вы с самого начала были собой, а не пытались разыгрывать влюбленную поклонницу, я, несомненно, мог бы увлечься вами. Беда только в том, что чувство любви мне не знакомо. Влюбленности – несомненно. Но – краткой, быстро преходящей. А любви – нет. Я могу влюбиться, начав есть цыпленка, но разлюбить уже обсасывая его косточки.
Агата посмотрела на него с интересом.
– Так не бывает, – сказала она.
Крылов только усмехнулся.
– Так не бывает, – повторила она. – Или вы тоже скрываете тайну, которую не хотите никому раскрывать: отчего это вдруг не пускаете в свое сердце любовь.
Крылов поджал свои пухлые губы, и лицо его приняло презрительное выражение.
– Нет никакой тайны, – проворчал он. – Что вы называете любовью, барышня? В наш век нет никакой любви – только удовлетворение плотских желаний, да и то не из страсти, а только ради кокетства и списка нежных побед, который потом прилюдно оглашается на ближайшем собрании хищниц в платьях. И хватит на этом! Вы попали в глупейшую ситуацию, Агата Карловна. И что теперь?
Она пожала плечами:
– У меня есть приказ – следить за вами. И я буду его выполнять.
– Но как?
– Не знаю. Буду следовать за вами. Скрываться уже нет смысла, так что я стану делать это открыто, а вам придется меня терпеть.
– Разве вам теперь не стоит послать рапорт о своем разоблачении? – спросил Крылов пораженно. – И сообщить о невозможности далее выполнять данное поручение?
– Увы, – вздохнула Агата. – Я получила вполне четкий приказ. Кроме того, как я узнаю, что больше не должна за вами следить? Ведь на мои рапорты не предполагается никаких ответов. Это почта – в один конец.
– Черт знает что! – воскликнул Крылов. – Что за глупость. Не могу же я выполнять… – Тут он осекся, потому что чуть не проболтал, что его послала с поручением сама императрица. – Не могу же я путешествовать с таким эскортом. Я уверен, что ваш Аргус – это Безбородко, который во-зомнил себя будущим канцлером.
Тут к нему пришла неожиданная мысль – а что, если Безбородко только притворялся, будто поверил ему там, во дворце? Вдруг он пронюхал об истинной миссии Ивана Андреевича? Или даже не пронюхал, а инстинктом царедворца предположил, что Крылову поручено некое задание? Ну и что, тут же ответил себе Крылов. Задание хоть и тайное, однако не столь уж важное… Или важное?
Петербург. 1844 г.
– Мне стоило бы насторожиться сразу, а я был глух ко всем подозрительным обстоятельствам, потому что был занят только своими страданиями, – сказал Иван Андреевич. – Меня не насторожил тот факт, что сразу после приема у Екатерины ко мне подошел не только Безбородко, но и братья Зубовы. Но я думал только о том, что придется неожиданно сорваться с места и покатить за кудыкины горы. Мысль о том, что моя миссия может быть более значительной и опасной, чем я предполагал, пришла ко мне только там, в трактире, когда я сидел напротив очаровательной молодой шпионки. А главное – теперь я не знал, как от этой девицы избавиться. Ведь я сообщил Безбородко, что просто уеду из Петербурга и не приму участия в кампании травли наследника. А если она будет следовать за мной как привязанный хвост, то… Здесь надо было проявить лисью хитрость.
Москва. 1794 г.
– Как мне от вас избавиться, черт побери? – спросил Крылов нервно.
Агата Карловна встала и пожала плечами:
– Понятия не имею. До свидания, милейший Иван Андреевич.
Он вдруг понял, что никакой робости или раскаяния в этой прямой спине и легкой полуулыбке нет. И снова пожалел, что не поддался на соблазнение.
Агата пошла к двери, так отчаянно раскачивая тюрнюром, что Крылов вдруг почувствовал, как гулко заколотилось его сердце.
– Чертовка, – буркнул он и решил успокоить себя десертом, но уже через секунду со звоном бросил ложку на стол, расплатился и пошел вниз, к своей бричке, ждавшей на большом дворе. Афанасия нигде не было – вероятно, отлучился. Крылов влез в бричку и закурил сигару. Он злился на себя, точно не понимая, за что именно – за то, что дал втянуть себя в опасное предприятие, или за то, что сидел сейчас здесь, а не на перинах постоялого двора, сжимая в объятиях стройное и гибкое тело Агаты Карловны.
Наконец Афанасий вернулся.
– Послушай, братец, – сказал ему Иван Андреевич. – Помнишь, мы давеча на заставе повстречали экипаж с девицей?
– Так разве вы с ней не… – простак кучер пару раз сунул рукоятку кнута в кулак.
Крылов зарычал:
– Слушай, дурень! Эта девица шпионка!
– Да ну! – округлил глаза Афанасий.
– И приставлена следить за мной, о чем совершенно открыто и заявила.
– Вот чертовка! – воскликнул кучер.
– Так вот, я хочу, чтобы ты сделал так, чтобы она нас не догнала и потеряла.
Все это время Афанасий кивал.
– Понял, ага, понял. Только трудновато это будет, потому что я Москвы не знаю.
– Разве ты не приезжал сюда с императрицей?
– Бывало, – снова кивнул Афанасий. – Но это ж – как? От заставы до Кремля. И все. Мы другими путями не ездили. Я вот сейчас расспросил мужиков, как доехать до Сухаревой башни. Но так, чтобы при этом скрыться от погони… Это сложновато мне будет, барин, не обессудь.
– Что же делать? – расстроился Крылов. – Ведь она доедет за нами до башни, а там… Мало ли что она узнает. Достаточно намека…
– В башню не так-то просто попасть, – сказал Афанасий. – Там же не проходной двор. Мы и в прошлый раз, когда туда ездили, спрашивали специального человека. Он преподаватель навигацкой школы. Стоит ему шепнуть про шпионку, барин. Пусть возьмет пару крепких ребят из своих и прикажет им задержать шпионку. Хотя бы до следующего вечера. А мы тем временем уже и все свои дела сделаем и дальше поедем.
– Куда это дальше? – насторожился Крылов.
– Ну… не знаю куда, – смутился Афанасий. – Куда скажешь, туда и поедем.
Иван Андреевич внимательно посмотрел в бородатое лицо Афанасия, но ничего прочитать в нем не смог.
– Ладно, – сказал Крылов. – Не пора ли нам уже ехать на место? Золото при тебе?
Кучер посмотрел удивленно:
– А разве ж я не сказал?
– Что?
– Да туда только ночью! А пока – не время. Я уже и комнату тебе сговорил в трактире, на заднем дворе. Вот только что. Там уже твой камердинер вещи раскладывает и постель стелет.
– Мой… кто? Камердинер? – произнес оторопевший Крылов. – Какой еще, к Плутону, камердинер?
– А мне почем знать? – пожал плечами Афанасий. – Говорит, с трудом нагнал, с самого Петербурга ехал. Уж он два сундука вещей привез, говорит, как же Иван Андреевич без меня уехали, кто же ему грелочку в ноги положит, кто чайку вскипятит?
Драматург стоял с раскрытым ртом, ничего не понимая. Никакого камердинера у него сроду не было.
– А каков он из себя? Как его хоть зовут? – произнес он наконец.
– Да ты сам пойди посмотри.
Афанасий повел его внутрь двора, а потом указал на небольшой двухэтажный дом, стоявший позади – с желтыми стенами и коричневой черепичной крышей.
– Как входишь, то направо по коридору третья дверь.
Крылов, следуя указаниям, вошел в дом, где прошел по темному коридору, пропитанному запахом вареной капусты, толкнул третью дверь и оказался в светлой комнате, оклеенной бумажными обоями, с огромным шкафом слева и кроватью под единственным окном. У правой стены стоял старинный дубовый стол и два стула. А между кроватью и столом, у двух раскрытых сундуков стоял человек небольшого роста, в темно-синем кафтане и с редкими черными волосами, зализанными набок. На нем были серые штаны и теплые вязаные чулки с толстыми башмаками.
– Ты кто? – спросил Крылов.
Человек повернулся, лицо у него было как обезьянья мордочка.
– А! Барин! – улыбнулся совершенно незнакомый Ивану Андреевичу человечек. – Постельку стелю. Сей же момент будет готово. Уж и выспитесь вы на перинке-то. Я перинку с собой привез – чистое облачко, а не перинка. И простынки на ней – свежайшие, я их водичкой розовой сбрызнул – как в саду, ей-богу, будете, как в райских кущицах. А велите еще чего, так я в соседней каморочке буду – вы только в стеночку кулачком стукните, я уж тут как тут.
– Ты кто такой? – зарычал Крылов. – Откуда ты взялся и чего делаешь в моих кущицах? То есть в моей комнате?
– Постельку стелю, – продолжала эта очеловеченная обезьянка, совершенно не реагируя ни на тон, ни на смысл вопроса.
– Забирай свои сундуки и убирайся, кто бы ты ни был! – крикнул Крылов.
«Обезьянка» сжался, как будто опасаясь, что Иван Андреевич сейчас набросится на него и задавит своей массивной фигурой. Его рука метнулась внутрь кафтана и вынула сложенный вчетверо листок бумаги.
– Черт тебя побери, – пробормотал Крылов, чуя неладное. Он взял бумагу и, развернув, прочитал:
«Дорогой Иван Андреевич! Нам передали, что ты так срочно покинул столицу, что вынужден ехать без удобств и прислуги. Это негоже, чтобы человек при такой важной миссии испытывал всяческие невзгоды. Потому мы посылаем тебе в услужение нашего человека Гришку Потапова. Держи его при себе, а жалованья не плати – мы после с ним сами сочтемся. Только корми его да давай место подле тебя. Гришка человек надежный, нам служил хорошо и тебе послужит не хуже – в том ему дано особое указание. А ежели ты его задумаешь прогнать от себя, то сделаешь тем для нас сильную обиду, которой мы не простим».
Внизу стояла подпись: «П. Зубов».
Крылов дочитал, сунул бумагу себе в карман, дошел до стула и тяжело сел на заскрипевшее сиденье. Он долго смотрел на обезьянку, а тот – на него – немного виновато, но в то же время с затаенным озорством.
– Понятно, – сказал наконец Иван Андреевич. – Платон Александрович, конечно, умеет подходец найти.
– Умеет, умеет, – кивнул Гришка.
– Так ты, стало быть, зубовский шпион?
Обезьянка пожал плечами:
– Мы люди маленькие. Нам что приказывают, то мы и делаем. Так и тебе, барин, приятненько – уж услужу как могу, живота своего не пожалею.
Да, подумал Крылов, ведь и не прогонишь этого мелкого беса, как давеча Агату Карловну, шпионку Безбородко. Тут тебе просто приказывают – на тебе надзирателя, а если откажешь – тебе же хуже.
– Ладно, черт с тобой, – махнул рукой Крылов. – Я пойду пока прогуляюсь.
– Куда? – быстро спросил Гришка.
– На кудыкину гору! – отрезал Крылов и вышел, хлопнув дверью.
Афанасий уже сидел на козлах.
– Ты его знаешь? – спросил Крылов.
– Кого?
– Этого… камердинера. Гришку.
– Знаю, – ответил кучер. – Человек Платона Александровича.
– А чего не сказал сразу?
Афанасий пожал плечами:
– А мне откуда знать, может, ты, барин, сам его и нанял?
Крылов в сердцах сплюнул и полез в бричку.
– Ладно, давай покатаемся, посмотрим город, а потом отвезешь меня обратно на Охотный в Благородный клуб ужинать. А после – к Сухаревой.
Петербург. 1844 г.
Иван Андреевич переменил положение своего грузного тела в кресле, отчего полы его теплого шлафрока разъехались и оголили толстые, перевитые венами ноги. Он прикрыл сизоватые старческие колени и прокашлялся:
– Не устал?
– Скоро пойду, – ответил доктор Галер. – Но давайте еще, пока есть время. Чем мы быстрее кончим, тем я быстрее получу обещанную плату.
– Получишь, не сомневайся. Хорошо. Спать-то мне не хочется теперь. Вот давеча я говорил про то, что время не щадит людей – и ладно. Но печально, как оно не щадит те места, где мы жили, с которыми у нас так много связано в прошлом. Что уж говорить про Первопрестольную! Сначала чума семьдесят первого выкосила, почитай, половину города. Потом этот пожар в двенадцатом! А я еще помню ту Москву, которую ты даже и представить себе не можешь. Вам, столичным жителям, Москва всегда казалась большой деревней, что уж говорить про те времена. Тогда каменные здания стояли только внутри Бульварного кольца, а за ним – все больше деревянные. Нет, конечно, и там возвышались монастыри, церкви, дворцы, но они были как гиганты среди множества самых бедных халуп, сараев, амбаров, кухонь и бань. А уж грязища! Мостили только центральные улицы, да и то из рук вон плохо. Особенно возле казенных строений – едешь и за скамейку хватаешься, чтобы не вылететь вон из брички! Летом и зимой еще ничего – по сухому или по снегу на санках. А осенью, в дожди – так уж лучше пешочком, по дощатым тротуарам, где они, конечно, были. Идут, бредут несчастные прохожие, к стенам и заборам жмутся – а мимо телеги, экипажи да конные – грязь из-под копыт да колес, крик, ругань, мол, посторонись, зашибу! Окатят водой из лужи… А лужи были знатные. Была одна такая между Гавриковым переулком и Переведеновкой – легендарная. Никогда не высыхала! Местные ее озером называли. Говорили, там карпов хотели разводить, да Управа благочиния запретила. Ночью еще хуже было: фонари только в центральных частях, да и те – на конопляном масле. Они только себя и освещали. А как выедешь за бульвары – так темнота. Только каретными фонарями и спасались – как во тьме два глаза огненных загорались, значит, кто-то из вельмож домой катит из Собрания или маскарада. Но мы-то выехали еще засветло. Прокатились по Кузнецкому мосту через Неглинку – уже тогда Кузнецкий был усыпан модными лавками, как нищий вшами. Выкатили на Сретенку, в девятую часть – слева Рождественский монастырь, впереди – Сретенский, сзади Ивановский девичий, поодаль – Златоустовский мужской, в отдалении кресты Высокопетровского – прямо хоть тут в бричке помирай – сразу в рай – такая святость вроде бы должна вокруг разливаться! А глаза опустишь – так по панели нищие бредут в лохмотьях, снуют дворовые с деловым видом, разносчики на головах тяжеленные лотки тащат со всяким товаром – ничего, обычная жизнь! Редко заметишь девичью шляпку – все более платки да колпаки. А то проедут в возках артиллеристы – к своему полковому дому. И вот по обе стороны потянулись дощатые домики – лавки Сретенского рынка. Слева они лепились прямо к монастырской стене, а справа – к оградам редких каменных домов и к заборам почти деревенских домов. Тут уж больше стало капоров и платков – бабы с корзинами приценивались к товарам, народу было немного, потому что основная торговля – утренняя уже спала. А чуть левее над рынком, почти вровень с колокольней Сретенского монастыря выросла она, Сухарева башня, – шестиугольная, с часами. Потом мы выехали на пересечение Бульварного и Садового, и башня открылась вся – с продолговатым массивным основанием в три этажа с огромными арками на первом и чудовищного размера лестницей, накрытой дощатой крышей так, что зимой можно было бы катать по этому скату на санках, если, конечно, не боишься сверзиться с такой высоты на промерзлую землю. Стены этого сооружения были выкрашены в серо-синий цвет, а окна и колонны – в грязно-желтый. У входа стояла стайка юных гардемаринов, перед которыми прохаживался морской офицер, вероятно, их наставник, и что-то грозно внушал. Однако серьезный тон наставника совсем не вязался с маленькой собачкой, которая бегала за ним, бешено виляя хвостиком. Я приказал Афанасию объехать вокруг башни, мимо стены Аптекарского огорода. Когда наконец мы вернулись снова к Сретенскому монастырю, начало уже смеркаться. Я велел везти себя в Благородный клуб, потому как желудок мой с точностью хронографа уже сигналил о времени ужина.
Конец ознакомительного фрагмента.