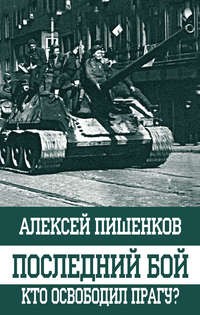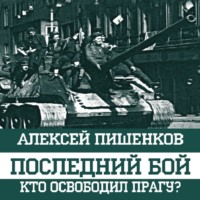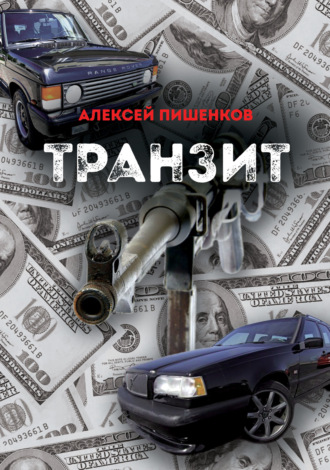
Полная версия
Транзит
– Перестань… – прервала его жена. – Лучше ешьте.
Она была красивая, его Марта, светловолосая, высокая, при теле, но не полная, как большинство деревенских женщин после родов, со всем, что надо, на своём месте… Эта грудь и торс и… После рождения их двойняшек она, казалось, стала ещё более женственной, более сладкой… К тому же прекрасная хозяйка! Боже! Как она готовит!!! Он знал, что все мужчины в деревне завидовали ему… Но она выбрала его… И он был счастлив. Он гордился своей женой и своими детьми! Как бы всё было хорошо, если бы не эта чёртова война!
Янке опустил голову и закрыл глаза… Алкоголь, усталость и чувства уже брали своё.
Рассвело, деревенские петухи вели свою обязательную перекличку, то тут то там мычала корова, где-то поблизости кашлянул и потом мерно застучал приводной мотор – деревня просыпалась к жизни… Уже вовсю пели птицы, солнечные лучи, преломляясь в полупустой бутыли, превращались в искуственную радугу, двор залило жёлтым светом ещё холодного весеннего солнца…
Первым собрался с мыслями Крошка:
– Рихарде! – он сильно толкнул осоловевшего за столом Майера. – Рихарде! Нам надо обратно! Нас же ждут… Проснись, чёрт тя возьми!!! Майер, подъём!
– Да, да… Иду… Яволь…
– Янке, ты… Ты, это, как знаешь, оставайся дома, и… Всё остальное… С женой и так далее… – Крошка прокашлялся. – Роттенфюрер Янке, я, как твой… Ваш… Прямой командир, в настоящий момент… Освобождаю вас от обязанностей. Чёрт, как это сказать-то? Всех… на мою ответственность! Я… я всё понимаю, Йозефе… Лучше, чем ты думаешь…
– Есть, герр обершарфюрер… Зиг хайль! – Янке, с поднятой в нацистском приветствии рукой, привстал и тут же рухнул на стол, чуть-чуть минув лицом тарелку с овощами. Это, видимо, должно было быть что-то типа неудачной шутки…
* * *15 апреля 1945 силы Второго Украинского Фронта под командованием маршала Малиновского, а в его составе и гвардейская кавалерийско-механизированная бригада генерал-лейтенанта И.А. Плиева начали сосредотачивать свои силы на территории Южной Моравии для атаки на Брно. Город и окрестности обороняла немецкая 1-я танковая армия генерала В.К. Неринга. Ночью с 17 на 18 апреля передислокация советских войск завершилась. Всё было готово к новой наступательной операции…
* * *После неудавшейся атаки на Будапешт – операции «Весеннее пробуждение» – и последующих тяжёлых боёв с наступающей по всему фронту Красной Армией, остатки когда-то непоразительных танковых дивизий СС «Das Reich», «Liebstandarte», «Totenkopf», а также «Hitlerjugend» и «Hohenstaufen» отступили к Вене.
С самого начала становления ваффен-СС, целый полк «Der Führer» и много других подразделений дивизии «Das Reich» были составлены из австрийцев, в основном Венского гарнизона, и местных жителей Нижней Австрии, а также, впоследствии, прилегающих регионов Судет, населённых этническими немцами и отрезанных от Чехословакии после заключения Мюнхенского договора.
В течение войны личный состав дивизии многократно дополнялся и переформировывался, люди умирали, приходили и уходили, но твёрдый костяк боевых ветеранов и командиров сохранял и передавал новичкам первоначальные традиции, поэтому неудивительно, что в то время, когда их коллеги из остальных дивизий СС старались во что бы то ни стало уйти на запад Австрии и сдаться там англо-американским войскам, именно «Das Reich», остановившись перед Веной, обернулась лицом к противнику и добровольно заняла здесь оборонительные позиции.
После тяжёлых боёв с многократно превосходящими силами Красной Армии, остатки дивизии постепенно отступали в город, где продолжали сражаться и, после кровопролитной битвы у Флорисдорфского моста, в конце концов, как одни из последних, покинули столицу Австрии. Но на этом война для «Das Reich» ещё не закончилась: с точки зрения немецкого командования, существовала реальная угроза захвата чешской столицы, Праги, Красной Армией ещё в конце апреля 1945. В городе находилось большое количество немецкого гражданского населения, неэвакуированых раненых и складов с военным материалом. Поэтому последней задачей боевой группы СС, сложенной из остатков дивизии и возглавляемой Отто Вейдингером, командиром полка «Der Führer», было переместиться в Прагу и обеспечить эвакуацию. В этот момент дивизия как единая боевая структура уже фактически не существовала.
Во время боёв в Вене небольшая механизированная группа под командованием оберштурмфюрера Александра фон Шенкофа потеряла контакт с основными силами и потом самостоятельно отступала на северо-запад, в направлении на Пойсдорф, в надежде пробиться к «крепости Брно» генерала Поеля и первой танковой армии на Мораве[7], но, отрезанная быстрым продвижением советских войск, была вынуждена вернуться на юг, к старым австрийским границам. В Вене к ним присоединились несколько раненых солдат из различных частей, самостоятельно покинувших госпитали в городе и не желающие попасть в русский плен, среди них три украинца из так называемой «галицийской» дивизии СС, три грузовика тыловой службы с водителями-венграми, отставшие от какой-то армейской колонны, а также уникальная боевая машина ПВО люфтваффе – четырёхствольное 20-мм орудие на шасси советского танка Т-34 и пять совершенно дезориентированных членов её экипажа, как потом оказалось, эстонцев.
Таким образом, в момент, когда колонна съехала с дороги у деревеньки Прерау, в её составе были: 1 мотоцикл, 3 грузовика, один из которых был полностью наложен ящиками с различным вооружением, но практически без соответствующих боеприпасов, второй – мебелью после эвакуации какого-то штаба, третий, к счастью для всех, огромным дефицитом – бочками с моторным маслом, бензином и дизельным топливом, которые и давали колонне возможность до сих пор передвигаться, 2 полугусеничных бронетранспортёра, 1 танк «Пантер», 1 артиллерийский тягач и вышеупомянутая машина люфтваффе. Всего девять транспортных средств и около семидесяти человек разношёрстного личного состава. Причём «Пантер» с замазанными опознавательными знаками, судя по всему, бывший когда-то в составе дивизии «Hohenstaufen», они нашли в совершенно исправном состоянии и даже с пятью снарядами в боекомплекте, но без капли топлива, просто брошенный экипажем на обочине одной из дорог.
* * *На конце грунтовки, как и сказал мотоциклист, находились невысокие, но добротно построенные из камня и кирпича винные погреба, за которыми начинался небольшой лесок, покрывающий возвышенность. Молодые листья, уже появившиеся на деревьях и кутарниках, давали возможность маскировки, а толстые стены погребов представляли хорошую защиту в случае боя. Вся техника была загнана в лес и замаскирована ветвями, «Пантер» занял позицию за одной из построек так, чтобы мог контролировать дорогу и съезд к погребам, зенитная установка встала в кустах на самом краю леса, прикрытая тенью деревьев, но с возможностью свободного разворота своих скорострельных орудий в случае атаки с земли или воздуха.
Расставив посты, оберштурмфюрер фон Шенкоф дал остальным разрешение окопаться и отдыхать, а сам влез на башню замаскированного танка. В деревне внизу было тихо, что означало, по крайней мере, что с его людьми пока всё в порядке – он был уверен, что даже в случае засады эти опытные ветераны не дадутся просто так, без боя, и не будут взяты врасплох.
Оставалось только ждать. Внутри танка что-то тихо скрипело и лязгало – механик-водитель, неутомимый венец Манфред Ленц, постоянно с любовью поправлял и ремонтировал всё, что можно в своей новоприобретённой машине – его собственный, точно такой же «Пантер», сгорел во время неудачной атаки на Будапешт вместе со всеми остальными членами экипажа, и с того времени он был тем, кем не хочет быть ни один танкист – пешим бойцом. Когда они наткнулись на брошенный танк, Манфред сразу уцепился за эту возможность и, быстро найдя среди остальных ещё четырёх танкистов, сформировал экипаж и попросил фон Шенкофа о разрешении присоединить танк к их колонне во время похода на Брно. Командир согласился – в конце концов, даже несмотря на свою топливную прожорливость, это была бы самая сильная бронемашина из всего того, что у них было в наличии…
Вышло солнце, в деревеньке где-то завёлся трактор и вовсю кричали петухи. Офицер уже начинал нервничать, когда увидел двух человек, приближающихся по полю в их направлении. Один из них был, без сомнения, Крошка – не узнать его гигантскую фигуру было практически невозможно. Шли спокойно и совершенно в открытую – значит, внизу всё в порядке…
«Янке наверняка остался дома, а Завацки ему, естественно, это разрешил… – фон Шенкоф усмехнулся себе под нос: – Хотя бы один из нас уже благополучно добрался домой… и то хорошо…»
– Герр оберштурмфюрер! – Крошка подошёл к танку. – Там чисто! Русских не было и не проезжали… Всё спокойно, думаю, можем войти в деревню за провиантом и так далее…
– Янке… Остался?
– Я, герр оберштурмфюрер… – Крошка вытянулся в стойку «смирно». – Я позволил себе разрешить роттенфюреру Янке, как в тот момент старший по званию, взглядом к обстоятельствам…
– Вольно, всё в порядке… У Янке дома всё нормально?
– Так точно.
В этот момент послышался быстро приближающийся звук авиационных моторов, и прямо над их головами на минимальной высоте, казалось, почти касаясь верхушек деревьев, с рёвом пронеслись несколько советских штурмовиков «ИЛ-2», удаляясь в направлении на Брно.
«Летающие танки», как их называли немцы, вызывали у них такой же ужас, как и легендарные «Катюши». Этот самолёт, предназначенный для боя против наземных целей, со своим арсеналом бомб, ракет, пулемётов и специальных противотанковых скорострельных пушек, был способен вскрыть, как консервные банки, даже тяжёлые немецкие бронемашины и бетонированные огневые точки и разносил смерть и погром в рядах противника всюду, где бы ни появился, оставаясь при том сам практически неуязвимым: даже крупнокалиберные зенитные пулемёты не могли прострелить его бронированный фюзеляж, а тяжёлые орудия ПВО были в большинстве случаев не способны взять его в прицел, так как русские штурмовики летали обычно очень низко и на высоких скоростях, исчезая так же неожиданно, как и появлялись.
– На Брно… – Майер проводил взглядом звено штурмовиков. – А куда мы, герр оберштурмфюрер?
– До вечера останемся здесь – передвигаться колонной днём в нашем случае равняется самоубийству, – а за это время нужно решить… не думаю, что имеет смысл вступать в конфликт с противником, лишние бессмысленные жертвы… Ни Брно, ни Берлину мы уже не поможем, Острава, думаю, уже полностью окружена тоже… Я лично не хотел бы сдаваться никому, даже если мне прикажут, но если из двух зол выбирать меньшее, то к «иванам» точно не пойду… – Он постучал своим автоматом по приоткрытому люку. – Радист!.. Манфред, есть у тебя там радист?!
– Так точно, герр оберштурмфюрер! – из верхнего люка показался худой молоденькиий солдат в серой форме артиллериста-самоходчика Вермахта (регулярной армии), видимо, один из тех, что прибились по дороге и были выбраны Манфредом в экипаж. – Ефрейтор Кёпке, герр оберштурмфюрер! Назначен радистом в экипаж шарфюрера Ленца шарфюререм Ленцем!
– Но-но! Не ори так! Из госпиталя?
– Так точно, герр…
– А аппарат твой работает? – перебил его офицер.
– Так точно, но, судя по всему, мы далеко, чтобы войти в контакт…
– Это я знаю, но, судя по антеннам, это командирский танк, принимает какие-нибудь гражданские диапазоны?
– Так точно, герр оберштурмфюрер! – ефрейтор на секунду скрылся в люке, и тут же они услышали сквозь шипение и треск приёмника приглушённые звуки вальса. – Вот, герр оберштурмфюрер… – его голова опять показалась над башней.
– Радист! Нет, погоди… Майер! Ко мне!
– Герр…
– Рихард, ты ведь понимаешь по-русски?
– Так точно…
– Найди кого-нибудь там в лесу, кто говорит по-английски, сядьте в танке с радистом и поищите в эфире какие-нибудь новости, русские и союзников, если поймаете… Переговоры… Всё, что угодно, из чего можно понять ситуацию на фронте и вокруг нас…
– Так точно! Выполню!
Было уже около половины восьмого и абсолютно светло, когда все одновременно повернули головы на север: тишину разорвал приходящий оттуда грохот вздаленной канонады, наследуемый серией мощных взрывов, а потом всё слилось в единый непрерывный гул – началась артподготовка перед атакой. На небольшой населённый пункт Орехов, находящийся около двадцати километров южнее от Брно, упали первые советские снаряды – начался штурм города, одно из последних танковых сражений Второй Мировой войны в Европе, которое продлится ещё почти целую неделю…
Почти одновременно со звуками артиллерийской стрельбы на окраине леса показался вернувшийся Янке.
– Герр обершт… Александр! – позвал он командира. Тот спрыгнул с танка, а Янке продолжал: – Я говорил со старостой – в окрестностях пока чисто, о том, что нам дадут продовольствие, тоже договорился, но он просит, чтобы мы здесь не оставались – если вдруг будет бой, то деревне конец…
– Это я понимаю…
– И ещё кое-что: здесь недалеко три дня назад приземлился в поле на пузо подстреленный «Хейнкель». Пилот – полковник, лежит в доме у старосты, ходить не может, какая-то важная птица, говорить хочет только с высшим присутствующим офицером, вроде как что-то серьёзное, я у него уже был – выглядит плохо… Хотя был явно рад, что мы сюда попали раньше Советов… Староста сказал, что какие-то мешки у него под кроватью и чемодан тяжеленный, приказал вытащить из самолёта и никого к ним не подпускает… Летел, говорит, из Остравы в Мюнхен… Вы с этим танком поосторожнее, этот погребок-то как раз мой… – он, усмехнувшись, указал в сторону «Пантера», стоящего у невысокой кирпичной стены.
– Хорошо, – фон Шенкоф кивнул. – Не будем терять время, возьми человек десять наших, из дивизии, и идём в деревню за продуктами… И с лётчиком этим поговорим.
– Есть, герр оберштурмфюрер!
Сзади к ним подошёл Майер:
– Герр оберштурмфюрер…
– Да, Рихард?
– Разрешите, я тоже заскочу, гляну, как там мои. Здесь километра четыре до Браттерсбрюнна… Я через часа три буду…
– Пойдёшь сам?
– Староста местный сказал, я слышал, что там тоже чисто, так что пойду сам.
– Возьми мотоцикл… И разузнай там, что сможешь… Да, найди кого-то вместо себя к приёмнику… Иди! – офицер махнул рукой. – Йозеф, идём к тебе!.. – взял с танка автомат и, не оглядываясь, направился к деревне. Через пару метров бросил через плечо: – В моё отсутствие командование принимает обершарфюрер Завацки!
* * *При штабе генерал-лейтенанта Плиева, командира кавалеристов, находилось и отделение контрразведки[8], задачей которого была борьба с диверсантами и вражеской разведкой в прифронтовой полосе, контроль лоаяльности местного населения, а также «отлов» немецких окруженцев и дезертиров, слоняющихся по окрестным деревням. Функция, при которой присутствие и возможность использования конных патрулей была как раз очень кстати. Дежурный офицер НКВД, майор Даладзе, высокий широкоплечий грузин лет сорока, моложавый, в безукоризненно подогнанной новенькой суконной гимнастёрке, явно шитой на заказ у хорошего портного, стоял задумчиво с чашкой чая, изучая от нечего делать довоенную карту Чехословакии на стене, которую и так знал уже на память, когда услышал, как зазвонил телефон и сержант за стеной снял трубку. Через минуту дверь открылась:
– Разрешите…Товарищ майор, лётчики, штурмовой авиаполк, где-то в тылу, мол, видели немцев, хотят вас…
– Переклучи! – он пружинистой походкой не спеша пересёк комнату, сел на стол и снял трубку. – СМЕРШ, майор Даладзе. С кэм гаварю? Здравия желаю, капитан, щто у вас?.. Гдэ-та на юг ат Брно?! Эта гдэ, «на юг», капитан, в Югаславиэ или, может, там, в Африкэ??? Пэдэсат киломэтров… Ага… А пачему званитэ нам? Ви решили, щто это уже наш тил? Ага… Надэюс, щто нащи танки успэвают за ващим ваабражэнием, капитан… Щто значит «вродэ как»?! Танки?! Ви их видэли или нэт?! Я знаю, чиорт падери, щто щтурмавики бистро летают!.. Так там пашлитэ «Паликарпова»! Он литает мэдленно! Щто мнэ вас учит надо, щтоли!.. Да! Да! Ждиом ваших сообшений!.. – он повесил трубку. – Чиорт знает щто! «Где-та на юг»! «Вродэ как танки»! Сэржант! Ка мнэ! Саэдини мэня с гэнэралом! Бистро!
* * *Староста, небольшой коренастый мужчина на вид лет шестидесяти, был явно взволнован доносящимися звуками канонады и нервно мял в руках серую шерстяную кепку австрийского военного образца. Он и ещё несколько мужчин средних лет – совет деревенской общины – стояли посередине его большого закрытого двора, две стороны которого обрамляла каменная стенка с большими воротами, выходящими на главную улицу, а остальное делал большой белый одноэтажный дом с красной черепичной крышей, который вместе с хозяйственными пристройками образовывал большую букву «L».
– …Герр офицер, мы понимаем ситуацию и готовы вам посильно помочь, но, извините… надеюсь, вы понимаете… здесь женщины и дети… Мы надеемся, что если здесь не будет никаких военных частей, то русские оставят нас в покое… Мы же обычные крестьяне… Герр офицер?
– Не беспокойтесь, это не в наших интересах – оставаться здесь. Мы уйдём в темноте, чтобы нас не видели с воздуха, даю вам слово, прошу только о возможности отдыха для моих людей и какого-нибудь провианта… Надеюсь на сотрудничество с вашей стороны.
– Естественно, герр офицер, – староста явно не разбирался в званиях СС. – Герр полковник вас ждёт, пойдёмте, думаю, что хочет отойти с вами… Пойдёмте!
Лётчик лежал в небольшой, но светлой и чистой комнате в глубине дома. Его осунувшееся лицо покрывала густая седая щетина, ему было, видимо, немного более сорока, но сейчас выглядел гораздо старше своих лет, бледный, с глубоко запавшими глазами и тяжёлым сиплым дыханием, он казался почти стариком. Перед приходом фон Шенкофа младшая дочь старосты накинула ему на плечи китель и подложила сзади подушки, чтобы он мог более-менее ровно сидеть.
– Герр полковник, добрый день, оберштурмфюрер фон Шенкоф, Вторая танковая дивизия СС, – представился, войдя в комнату, молодой офицер и тут же обратил внимание на рыцарский крест на шее пилота, Немецкий Крест в золоте и множество других наград, и не только немецких, а также почётный золотой партийный значок НСДАП[9] на кителе – достаточно редко встречающийся на военной форме экземпляр: его носитель, кроме того, что, видимо, являлся авиационным асом, был ещё и совсем не последним человеком в партии…
– Полковник фон Шюттенхоф, эскадрилья специальных операций штаба люфтваффе, искренне рад вас видеть, оберштурмфюрер! Сами понимаете, уже ожидаю русских с минуты на минуту, а тут вы…
– Рад быть в вашем распоряжении, герр полковник… – эсэсовец слонил голову. – «Специальная эскадрилья штаба»?.. – Ни о чём подобном он никогда не слышал, но не решился пока задавать лишние вопросы.
– Оберштурмфюрер, – продолжал лётчик. – В данной ситуации не буду морочить вам голову различным дерьмом относительно секретности, важности для рейха, долга перед фюрером и т. д., рейх уже не существует… Я… я не знаю ваших личных планов на будущее… Но вы и ваши люди – моя последняя надежда, вы это понимаете, и я тоже. Зато вы ещё не знаете, что я – также надежда на будущее лично для вас… Не знаю, что со мной и сколько мне осталось жить… Думаю, что что-то с позвоночником – не чувствую ног, но провести этот остаток дней в русском плену я не собираюсь… Под моей кроватью сейчас лежит нечто, что я должен был довезти до Мюнхена, но, видит Бог, не получилось… Но это ни в коем случае не должно попасть в руки как русских, так и американцев или англичан… Ни тем ни другим не хочу доставить такое удовольствие!.. Помогите мне, оберштурмфюрер, а я помогу вам… Понимаю, что не выгляжу как человек, способный ещё кому-либо помочь, но, поверьте, волей судьбы здесь и сейчас, я – ваша самая реальная надежда на будущее… Если, конечно, нам обоим удастся выбраться из этого дерьма живьём и с моим грузом и добраться хотя бы до Зальцбурга…
– Сделаем всё возможное, герр полковник… – фон Шенкоф неуверенно кивнул. «Зальцбург?!! Хотя бы?!! Он вообще имеет представление, где мы? Или при приземлении ударился головой? Это же отсюда этак четыре сотни километров, и неизвестно ещё, через чьи позиции!!!» Но закоренелое чувство субординации не позволило ему сразу открыто возразить, он лишь повторил: – Сделаем всё возможное…
III
«Интерсити экспресс» Цюрих – Вена – Цюрих не ехал в нашем понимании этого слова – он как будто летел над рельсами. Без привычного российскому уху стука колёс, без лязгания буферов, свиста на поворотах и грохота сцепок. В вагоне стояла абсолютная тишина, лишь еле заметное мерное покачивание иногда напоминало о том, что он всё-таки движется. Желающие, как в хорошем авиалайнере, могли наслаждаться несколькими музыкальными программами на любой вкус с помощью наушников и панели управления, присутствовавших на каждом сиденьи. В отличие от убогих, обшарпанных и заплёванных старых составов наших РЖД, интерьер швейцарского поезда тоже скорее напоминал самолёт, чем железнодорожный вагон: два ряда кресел футуристической формы лежащего полумесяца с каждой стороны вдоль окон, багажные отделения под потолком, тишина, белый неоновый свет, мягкая цветная обивка, люди в наушниках, проводник-стюард, разносящий кофе, чай и прохладительные напитки, международный телефон в хвосте… пардон, в конце вагона, у туалета… Советскому человеку, впервые попавшему сюда без предварительной подготовки, казалось, что он оказался на съёмках фантастического фильма о далёком будущем, космических кораблях и межпланетных рейсах. Это сейчас переживал и Клим, и даже при всей его обычной сдержанности он не мог скрыть своего восхищения. Но прекрасная альпийская панорама, беззвучно проносящаяся за идеально звукоизолированным окном, напоминала, что мы всё ещё на планете Земля, а лежащие в наших карманах «совковые» серпастые-молоткастые паспорта, хотя и элегантного тёмно-красного цвета, но без единой легальной европейской визы, уничтожали ощущение идиллического прекрасного будущего и напоминали о небезопасном, нервозном и трудном конце двадцатого столетия, в котором мы имеем счастье (или несчастье) жить.
Несмотря на то, что поезд шёл прямо туда, куда нам надо, то есть в Цюрих, мы, за неимением оных виз, должны были покинуть его роскошные сиденья перед швейцарской границей в небольшом городке Брегенц на австрийской стороне и продолжать путешествие опять нелегальным путём. Хотя даже партизанский способ пересечения границы здесь также был намного более комфортабельным и безопасным, чем в той же Чехии. Надо было лишь сесть в приличный автомобиль со швейцарскими номерами, сделать «швейцарские» лица и переехать её. Никаких пробежек ночью по вспаханному полю, патрулей на джипах, погонь и т. д.
Вообще, с перемещением по суше с востока на запад было заметно, как постепенно меняется к лучшему жизнь и люди именно в этом направлении, а не наоборот. Особенно это отражалось на первых официальных лицах страны, которые встречал на своём пути каждый путешественник: пограничник – зеркало целой государственной системы. Вечно злые и подозрительные белорусские погранцы и таможенники, в старомодной, ещё советских времён, форме с непонятными эмблемами их новой государственности – чистая воля произвола, с вечным выражением Павки Корчагина на лице и убийственным взглядом пропитых глаз, словно в книжках времени расцвета СССР о героях-чекистах, постоянно ищущие «врагов народа» или замаскированных шпионов среди усталых челноков с клетчатыми китайскими баулами, нищих эмигрантов-неудачников, пьяных туристов и остальной всякой всячины, проезжающей в обшарпанных поездах через их республику, за неимением средств на более приличный транспорт, потом сменялись поляками.
«Панове» – поляки – на восточной границе являлись, в большинстве своём, достаточно приятными людьми, хотя и угрожающе носили автоматы Калашникова также советского образца, смешные береты и бравую пятнистую военную форму. Эти уже были, вопреки своему внешнему виду, абсолютно безобидными, с открытой и откровенной склонностью к коррупции по любому поводу, который, кстати, всегда старательно выискивали, в надежде сунуть себе в карман доллар-другой.
«Западные» поляки на выезде из страны только лишь спокойно проверяли паспорта и количество сумок и чемоданов, серьёзно и тщательно. Контроль, контроль, контроль… Вдруг чего… Хотя, видимо, знали, что их «восточные» коллеги уже выбрали и скассировали всё, что можно.
Чехи – первые пограничники в обычной синей полицейской (не военной!!!) униформе, способные, к тому же, иногда улыбаться и вообще вести себя по-человечески. Их присутствие в вагоне означало окончательный выезд из типично восточной зоны – «соцлагеря».
До сих пор не понимаю, как этот маленький народ, находясь так долго во владении советского «социализма», смог так быстро найти все свои западные корни и перестроиться – именно перестроиться, а не «перестроиться» в смысле «перестройки», объявленной господином М. Горбачёвым и ведущей Россию и весь разваленный им же Союз незнамо в какую задницу, лишь бы поднять свой собственный престиж за пределами нашего многострадального государства… Его службы были узнаны и хорошо оценены на Западе… Но об этом когда-нибудь потом…