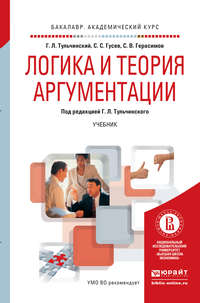Полная версия
Феноменология зла и метафизика свободы
Надеюсь, читатель понимает, что пафос этого параграфа направлен не против менеджмента и менеджеров. Опыт эффективного менеджмента показывает, что управление тем результативнее, чем больше оно строится на сопричастности персонала делу, чем больше каждый работник свободнее в принимаемых решениях, а значит, и ответственнее. Имеются на эту тему конкретные разработки, рекомендации и модели. Никакой контроль не будет эффективным до тех пор, пока не включится самоконтроль совести. Поэтому эффективное управление может быть связано не только с административно-канализационным процессом сверху вниз нисхождения административной благодати, сколько с созданием организационно-экономических (в том числе и административных) условий саморазвития управляемого процесса и самоутверждения работников и коллектива в целом. Но, в конце концов, – не менеджмент предмет этой книги. Целью предшествовавших пассажей было показать, что проблема самозванства не просто нравственная проблема теоретиков-философов и проповедников, а самая что ни на есть практическая, «прикладная» проблема социальной жизни вплоть до хозяйственно-экономической деятельности. Самозванство ничтожит не только любовь, но и экономику: семидесятилетний советский опыт – убедительный пример «продуктивности» самозванческих экспериментов с обществом решительных-за-других.
Предательства и изменыРешительные-за-других самозванцы очень ревнивы к любому покушению извне на свое поле решений и к любому проявлению самостоятельности своей паствы. Самые жестокие расправы – с бывшими единомышленниками. Этим решительным нужны не просто исполнители и подчиненные, а лично преданные. Подбор кадров в такой системе менеджмента осуществляется именно по принципу личной преданности в ущерб всему – компетентности, квалификации, опыту, перспективам, творческому потенциалу – были бы преданными лично решительному лидеру, не претендовали на его право решать, а лучше – не думали лишнего. Таких решительныеза-других чувствуют кожей и животом, инстинкт самосохранения срабатывает.
Поэтому торжество решительных-за-других предполагает как их alter ego – готовых отказаться от своей свободы. Ситуация вполне в духе В. В. Розанова, говорившего, что есть только две философии – выпоротого и ищущего, кого бы ему еще выпороть. Преданные жертвуют своей свободой небескорыстно – они получают взамен осмысленность своего бытия, его оправдание и комфорт безответственности. Как пел В. Высоцкий —
Не надо думать – с нами тот,Кто все за нас решит…Речь идет об очень серьезном – о смысле и оправдании бытия людей. Для солдат «маленького императора», участников сталинских коллективизаций и строек коммунизма их судьба – причастность великим решениям и свершениям, чем более великой кровью оплаченных, тем ведь более небессмысленных – ведь не может быть даром столько сил и столько крови. Любая критика в адрес их любимого властелина-хозяина воспринимается ими как попытка лишить их осмысленности и оправданности жизненного пути, превратить их жизнь в нечто бессмысленное или даже опасное и вредное для общества. Это трагедия целых поколений, одурманенных, соблазненных решительными-за-других самозванцами. Более того, сами преданные, превратившись в винтики-средства, уничтоженные вышестоящим Самозванцем, в своей невменяемости сами становятся самозванцами и ведут себя соответствующе, в том числе и решительно. Включая и своего властелина.
«Нет у диких слонов врага опаснее, чем прирученный слон, и нет врага опаснее, чем бывший друг», – перефразировал индийскую мудрость Бертольт Брехт. Измена друга – вопиющий акт самозванства с его стороны. В отношениях между людьми имеется некоторый минимум, без которого невозможна ни любовь, ни дружба, ни простое сотрудничество или общежитие. Этот минимум – доверие. Уверенность, что другой тебя не подставит, не злоупотребит тобой и твоим доверием, не будет играть тобой, манипулировать, не навредит. Это тот минимум, который одновременно и максимум – и что еще нужно в человеческих отношениях, кроме доверия?
Доверие не означает ублажения друг друга, потакания страстям и порокам. Кто, как не друг, скажет нам о наших слабостях? Уж по крайней мере тот враг, который открыто скажет нам об этом первым – почти что друг. А тот друг, который в глаза говорит одно, а за глаза – другое – точный враг, он злоупотребляет нас, пользуется доверием. Он самозванец, поскольку использует доверие как средство, пользуется как средством моим бытием-под-взглядом. Но это друг, а что говорить о лишенных совести – а таковы преданные решительным-за-них.
Лишенные свободы, оничтоженные преданные суть предатели. Это предательская преданность бессердечных. В любой момент преданность готова обернуться изменой. Причем каждый из таких самозванцев видит в каждом другом такого же самозванца, как и он сам, подозревает его в коварных замыслах. Возникает нравственная атмосфера тотальной зависти, коварства, подозрительности и фискальства. Самозванство ничтожит людей, превращает их в ничтожества. Оно же ничтожит и общество, не только нравственно – буквально разлагает его, разрушая все нормальные человеческие связи и отношения: политические, экономические, семейные, дружеские, любовные… Страшна, кошмарна жизнь в таком обществе, зараженном вирусом самозванства. Подобно Мидасу, все к чему ни прикоснется рука и взгляд самозванца, превращается в собственную противоположность, омертвляется, ничтожится, гибнет. Зло ведь и есть – небытие.
Спасти общество может только отчаянная борьба за свободу каждого и укоренение бытия-под-взглядом, обеспечение его гарантий и защиты. Собственно, это опять же тот минимум и максимум одновременно, что может и должно сделать любое общество для человека: создание и защита зоны свободного автономного поведения личности. В гитлеровских и сталинских концлагерях выживали, сохраняли себя как личность, только те, кто сам создавал себе зону автономного поведения, зону только своих и ничьих других – свободных – решений и поступков. В условиях исключительной лагерной регламентации жизни во всех деталях бодрствования и сна это особенно трудно и особенно важно. Например, принимается решение обязательно чистить зубы, хотя некогда, а главное – нечем. Но хоть чем, хоть пальцем – но самому принять решение – не по принуждению – и чистить, следовать этому решению. Или ходить, загнув один палец – любая мелочь, пусть самая несущественная, но решение о которой принято самостоятельно! Только так человек может сохранить остатки свободы и росточки ответственности, своего не-алиби-в-бытии. Утратив их, человек теряет свою самость, оничтоживается, автоматизируется.
Так и общество может выжить или возродиться, только если вся правовая и прочая властная мощь государства будет направлена не на общество в целом – некий абстрактный man (man – обман), а на гарантию прав личности, человеческих прав на свободу и ее реализацию со всеми вытекающими последствиями ответственности. Но ведь общество и возможно только как общество людей вменяемых, а не безответственных решительных-за-других – тоже безответственных.
Приручение: охотники до чужих душДавно уже мне кажется нравственно сомнительной умильная и трогательная сказочка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это при всей искренней симпатии к автору, признании большого нравственного потенциала его «Планеты людей». Но «Маленький принц»… Чувствовалась какая-то червоточина в столь популярной – до расхожести – формуле, центральной в этой сказочке-притче. Наверное, притча и была написана ради этой формулы, преподанной Маленькому Принцу Лисом: Мы в ответе за тех людей, которых мы приручили. Теперь, пожалуй, я могу сказать – в чем червоточина. Какая-то интуиция, какой-то нравственный инстинкт не обманул.
Сказать, что мы в ответе за что-то, что сделали по своей воле – все равно, что попасть пальцем в небо. У человека нет алиби в бытии. Вина его абсолютна, заслуги относительны. И разум дан ему, чтобы он это понял – меру и глубину ответственности и вины в степени собственного разумения и понимания. Но недоразумение алиби не даст. Незнание закона не освобождает от ответственности. А уже тем паче в случае сознательного действия вроде «Приручения» – фактически – соблазнения-прельщения. Воспетое Экзюпери приручение ведь не что иное, как прельщение хотящим-быть-любимым. Форма самозванства. Хороша сказочка! Самозванно влезть в жизнь другого существа, прельстить его шаг-за-шагом (описана ведь целая наука!), приручить его, а потом ему еще надо напомнить, что он в ответе, ответственен за прирученного. Сказочка для самозванцев. Именно для самозванцев, и именно сказочка. Для меня всегда подозрительны люди с пиететом ее цитирующие. Что-то не в порядке в их сердце, чувствилище любви и добра.
Мы в ответе за тех, кого приручили, – а кто просил приручать?! Знаю несколько таких людей, очень любящих тему ответственности за прирученных. По три-четыре жены, у каждой дети – он очень любит за них всех отвечать. Они все маются, он сам мается, зато все очень красиво и высоконравственно. Знаю это потому, как сам таким был, а может и есть.
Самозванцы, особенно – любящие-хотящие-быть-любимыми, решительные-за-других лезут со своей ответственностью за других, навязывают им свою волю, оправдывая творимое своей любовью и повышенной ответственностью. На самом же деле происходит обыкновенный обман, подмена. Самозванцы ведь замечательные оборотни, оборотни по призванию, если не по профессии (а лисы – классические фольклорные оборотни). Самозванная ответственность за другого – прирученного, любимого – оборачивается уходом от ответственности, перекладыванием вины на другого – ведь это я за него отвечая, ради него, во имя его, и фактически – от его имени. «Любовь, это перекладывание ответственности на другого, а самому – право быть пустым» – одна из записей для себя, в стол, сделанная А. Платоновым. Как флагом размахивает и прикрывается самозванец другим – прирученным, любимым, оправдывая им свое пустое невменяемое бытие и пустоту сердца. Нравственное вампирство. А в силу его ненасытности ничто не мешает сменить флаг, приручить и высосать следующую душу. Измена и самозванство идут рука об руку. При всей «ответственности» самозванца и именно в силу ее.
Кошмарный в этом плане мир построен В. Набоковым в романе «Приглашение на казнь». Все его персонажи – и сам Цин-циннат Ц., и его жена Марфинька, и его тесть, и палач господин Пьер – все они самозванцы: сначала любящие, потом изменяющие, но все очень решительные-за-других и очень ответственные за них. Жена обязательно рассказывает мужу о своих многочисленных и постоянных изменах – это обязательно, вплоть до ритуальности. Господин Пьер заботливо и ответственно ощупывает затылок и позвонки своего «подопечного», с которым он проводит вместе его последние недели – это повышает ответственность обоих, очень сближает и приручает.
Все окружающие дружно и с большой любовью навязывают Цинциннату Ц. казнь, он должен сам лечь и считать до удара топора. Куда тут ощипанному персонажу В. Маканина – ему хоть перья втыкали. В конечном счете становится ясно, что человек всегда сам принимает навязываемые ему ответственными приручателями условия и правила игры. И тогда – «все готово». Но стоит встать и уйти, как все эти условия и диктующие их самозванцы становятся наваждением, бутафорией. (Замечателен эпизод превращения палача господина Пьера в малыша-личинку. Что это? Ребенок? Сын? – Главный палач?) Стоит только проснуться от морок бытового самозванства. И уйти. Но куда? «К таким, как он». Ницшенским гиперборейцам? Сверхчеловекам в этом бутафорстве быта? Главным самозванцем оказывается сам Цинциннат Ц. Кошмар тотального самозванства.
Любящие приручатели – охотники-до-чужих-душ. Все они в той или иной степени сходны с другим набоковским персонажем – Гумбертом Гумбертом из «Лолиты». Можно верить автору и его почитателям – это действительно роман о любви, но любви упыря-самозванца, который «всего лишь» ломает жизнь любимой, лишая ее других возможных миров бытия-под-взглядом и ревниво следя – до насилия и убийства – за любым покушением на такую возможность. Такая уж ответственность.
Любовь как самообман, как жизнь в мире иллюзий и энергия заблуждения – удел юных. «Хочу-не хочу» в этом возрасте доминирующая мотивация, мало соотносимая с «могу». Потому и радости утопического самообмана, так же, впрочем, как и его трагедии, – удел юных. Для зрелых людей удел – любовь по расчету. Но есть опасность гипертрофии «могу», опасность переоценки своих сил и возможностей, что очень свойственно для «кризиса сорокалетних». Дети выросли, родители ушли, силы вроде бы в избытке, почва под ногами есть. И если на эту почву падает шок от того, что перспективы до конца жизни ясны и просматриваются прозрачно и ясно, осталось только этот ясный уже сейчас во всех деталях путь дойти, дожить… Вот тут и начинаются скачки вбок, непредсказуемые жизненные прыжки, попытки прожить еще одну жизнь. «Могу». Все зависит только от «хочу». И возникает любовь от «могу». То же самозванство и прельщение. Юному еще простительно самозванство. Он строит свой воздушный замок и подводит под него фундамент, копает свою нишу во всюду плотном без него мире, у него нет иного пути утвердить свое бытие, как начать самоутверждение с воздушного замка иллюзий. А сорокалетний?! Это зрелый, матерый самозванец-соблазнитель. По убеждению. То ли по призванию – что еще хуже. Тот не знает всех следствий своих иллюзий и действий – и слава Богу, что не знает. А этот знает и тем не менее – испытывает судьбу. Оправдываясь ответственностью. Оправдываясь, то есть от ответственности уходя.
Кто самозванчески лезет с любовью и ответственностью, плохо кончает – насилием. Можно привести известный литературный пример – насилие Сомса Форсайта над своей женой Ирэн в «Саге о Форсайтах» Д. Голсуорси, а можно привести и пример остроболезненный – еще более известный окололитературный – вечную тему российской культуры – тему последних лет жизни А. С. Пушкина. Очень поучительно раскрытие этой темы В. Розановым.
Он со свойственной его самозванной гениальности безапелляционностью увидел вину самого А. С. Пушкина в характере его отношений с женой, а значит – и в дуэли. Между Пушкиными, по словам В. В. Розанова, не было «общего смеха» – счастливого смеха мужа и жены по поводу ухаживаний за нею Дантеса. Молодой офицер ухаживает за молодой женой? – Сделайте милость! В свете говорят об ее успехах? —
Вот, братец мой, потеха!Ей-ей умру,Ей-ей умру,Ей-ей умру от смеха —строки, принадлежащие тому же А. С. Пушкину, но, к сожалению, им самим не использованные. Не смог Александр Сергеевич ни сам рассмеяться – «Дом мой – твердыня моя: кого убоюся! Очень нужно молокососа вызывать на дуэль?!», ни, самое главное, посмеяться над этой историей вместе с женой – ничто не выражает так интимного единения душ людей, как их общий смех. Значит, делает вывод Розанов, не было у Пушкина дома души дома, не было дома души у обоих Пушкиных, не было общей крепости и твердыни. И Розанов прямо обвинил Пушкина в этом[6].
По его мнению, гений русской поэзии переступил через чужую жизнь – своей молодой жены. В контексте ведущегося разговора можно сказать, что самозванство неизбежно чревато насилием, в пределе – смертью. До этого предела Пушкин и дошел в своей последней дуэли. Он был прав свои последние 3–5 дней, но был неправ свои предсмертные 3–5 лет. И вина его – в сфере собственного дома. Посуда – общая, серебро общее, скучающее общее ложе, общие знакомые, но не смех – то, что онтологически объединяет души людей в «мы».
Розанов доводит свои умозрительные прозрения до живых картин, сцен: «Не было совершенного чистосердечия и “гомеровского хохота” в ее рассказах Пушкину о Дантесе. Не тот смех и не та психика. Смеется, смеется, и вдруг глаза поблекнут. – “Ну, продолжай же, Наташа! Так ты его…” – “Ну, хорошо, уж поздно: доскажу завтра”. Речи проговаривались, смех не раскатывался, так – улыбнется, мертвенно улыбнется. – “Да ты что, Наташа?” – “Ничего, утомлена. Я рано встала”. И вечно утомлена. – “Верна?” – “Конечно!!!” – “Довольна?” – “Довольна!” – “Счастлива?” – “Счастлива!” – “Не упрекаешь [меня]?” – “Нет…” – “Детей любишь?” – “Люблю”. – “Но поговори же, но расскажи же: так ты этого молокососа…” – “Ну, оборвала, ну, и только, и спать хочу, и дети нездоровы, и завтра надо рано вставать…”». Розанову не откажешь в гениальности. Даже если такого и не было, его следовало придумать.
Не было не только совместного смеха, но не было и другого сближающего семейные души занятия – совместного чтения. Нет души семьи – так, сближение. Функция. Она – в слезах, он – в бешенстве, она – в терпении, он – в унынии. Жена и в замужестве осталась девушкой, поэтично-религиозной девушкой – как для Пушкина, так и для самой себя. «… Семья именно там, где есть “одно”. Вот устранение этих-то “двоих” и есть мука, наука и, конечно, неповторимая наука семьи. У Пушкина все было “двое”: “Гончарова” и “Пушкин”. А нужно было, чтобы не было уже ни “Пушкина”, ни “Гончаровой”… “Бог и одно” у них не существовало и даже не начиналось, не было привнесено в их дом. Что же свершилось? Пусть рассуждают мудрые. История рассказывает, что вышла кровь: трудно оспорить меня, что Бога – не было и что гроза разразилась в точке, где люди вздумали “согласно позавтракать”, тогда как тут стояло святилище мало им ведомого Бога. И, конечно, старейший и опытнейший был виновен в неуместном пиршестве, и он один и потерпел».
Любовь есть самозванческая, бессердечная в конечном счете – ничтожащая, не созидающая и укрепляющая, а разрушающая сознание, жизнь окружающих. И есть любовь сердечная, как возможность единения двух в том общем им, что Розанов называл «богом между ними». Розанова в свое время вообще плохо поняли в его несколько аффектированной мистике семьи и любви. Он был понят как пропагатор мистики пола. Именно так его понимало даже ближайшее окружение – достаточно перелистать розановские страницы Мережковских, Белого или Блока. Ключ же к его мистике семейной – читай сердечной – любви дает одна из его записей во втором коробе «Опавших листьев», в которой он вспоминает поход в церковь с тогда еще маленькой старшей дочерью, худенькой и грациозной, у которой родители боялись менингита: как у первого ребенка и почти не считали, что выживет. Жизненный период у Розанова тогда был очень острый – первая жена, Апполинария Суслова, живя жизнью женщины – эмансипе, не давала развода, а росли уже малые “незаконные” дети во втором браке – фактическом браке, и у жены уже обнаружились признаки смертельной болезни, и не помогали обращения к церковным иерархам, и хроническое безденежье. Где спасение?
«… Службы не было, а церковь никогда не запиралась… И вот тихо-тихо… Все прекрасно… Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал: “…Вы здесь – чужие. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то «так» и «что следует», придя «вдвоем» как «отец и дочка». Вы – «смутьяны», от вас «смута» именно оттого, что вы «отец и дочка» и вот так распоясались и «смело вдвоем»”.
И вдруг образа как будто стали темнеть и сморщились, сморщились нанесенною им обидою… Зажались от нас… Ушли в свое “правильное”, когда мы были “неправильные”… и как будто указали и сказали: “Здесь – не ваше место, а других и настоящих, вы же подите в другое место, а где его адрес – нам все равно”.
Когда я услышал этот голос, может быть и свой собственный, но впервые эту мысль сказавший, без предварений и подготовки… – то я вышел из церкви, вдруг залившись сиянием и гордостью и как победитель…
– Пойдем, Таня, отсюда…
– Пора домой?
– Да… домой пора…»
Розанов сам в этой записи оценивает этот эпизод как новую эру своего миропостижения – открытие самоценности дома души дома, в семье, среди близких. Отсюда его последующий культ своей семьи, домашнего семейного быта, гордость за него. Об обстановке домашних отношений говорит и его последнее, предсмертное письмо Н. Е. Макаренко: «… Детки собираются сейчас дать мне картофель, огурчиков, сахарина, которого до безумия люблю. Называют они меня “Куколкой”, “Солнышком” незабвенно нежно, так нежно, что и выразить нельзя, так голубят меня. И вообще пишут: “Так! так! так!!!”, а что “так” – разбирайтесь сами… жена нежна до последней степени, невыразимо и вообще я весь счастлив, со мной происходят действительно чудеса… Все тело ужасно болит»[7]. Пожалуй, человек, сделавший свою семью «столпом и утверждением истины», живший этим богом сердечного единства (одна из дочерей не вынесла смерти отца и покончила с собой), имел основания, а возможно и право судить Пушкина.
Когда Заратустра Ф. Ницше спустился с горы учить людей о сверхчеловеке, учить тех, кто «ничего не слышал о том, что Бог умер», у него состоялся любопытный разговор со святым старцем:
«… Как в море жил ты в одиночестве, и это море лелеяло тебя. Увы, ты хочешь сойти на берег?..» Заратустра отвечал: «Я люблю людей».
«Почему, – говорил святой, – ушел я в лес и в уединение? Не потому ли, что я слишком любил людей? Теперь я люблю Бога: людей я не люблю. Человек для меня слишком несовершенное создание. Любовь к человеку убила бы меня».
Заратустра отвечал: «Что говорил я о любви! Я несу людям дар».
«Не давай им ничего, – говорил святой. Лучше возьми у них что-нибудь и неси с ними – это будет для них самым большим благодеянием: если только это благо и для тебя! А если хочешь ты им дать, то дай им только милостыню, и заставь их еще просить ее!»
«Нет, – отвечал Заратустра, – я не подаю милостыни. Для этого я недостаточно беден».
Святой смеялся над Заратустрой и говорил так: «Тогда смотри, чтобы они приняли сокровища твои! Они недоверчивы к отшельникам и не верят, что мы приходим с дарами. Слишком одиноко звучат шаги наши по их улицам. И когда ночью, лежа в постелях, они задолго до восхода солнца слышат идущего человека, они спрашивают себя: куда идет вор?»
Заратустра, из любви к людям несущий им в дар взлелеянные сокровища своей души и ума, подобен горьковскому Данко, огнем души освещающему другим путь. Но пусть не ждут благодарности заратустры, данко, сверхчеловеки и прочие. Их дары самозванны, и преданными потом будут расценены как воровство у них. И это будет справедливо, так как у них было украдено главное – свобода. Самозванная любовь к людям оборачивается злом – достаточно вспомнить, как мечется Мидасом, обращающим свое добро несомое другим во зло для них, Дата Туташхиа в гениальном романе-трактате Ч. Амирэджиби. Самозванному добродетелю решительномуза-других, фактически, охотнику-до-чужих-благодарных-ему-душ, лучше удалиться от живых людей, уединиться и принести благо хотя бы самому себе. Старец прав. Самозванцу нельзя любить живых людей. А живым лучше «взять что-нибудь друг у друга и нести вместе». И если что любить, то Абсолют в душе друг у друга, любить сердцем.
Сколько себя помню, уклоняюсь от руководящей работы, когда надо решать за других, но очень люблю сотрудничать. Хотя часто натыкаюсь на нежелание самостоятельных решений – или это мне кажется, а наталкиваюсь я на неприятие «даров»? Тот спор с завкафедрой продолжается.
1.3. Честные и принципиальные
Я – кристально честный и прямой души человек!
Откровение сослуживцаЧесть и стыд, дуэлянты и самоубийцы; Принципиальные и справедливые; Кастовость чести: девичья честь и честь мундира; «Отдать честь»: чины, награды и свобода.
Честь и стыд, дуэлянты и самоубийцыСлова в эпиграфе к параграфу принадлежат человеку, с которым свела меня судьба в начале трудовой деятельности. Запомнился он еще сценкой на прополке морковки, куда наше конструкторское бюро вывозили летом. Тихо и молча мы ползли враскоряку по грядкам, как вдруг он озадачил всех вопросом: «Ребята, а что такое идиот?» Мы были младше и только фыркнули, но один из старших не смолчал: «Посмотри в зеркало». Посмеялись. Успокоились. Но тут другой из старших посоветовал: «На твоем месте я бы дал ему по тыкве!» На что после некоторой паузы и оглядывания «своего места» последовало: «Но ведь тыква здесь не растет?!» Но сценка эта к делу не относится – просто для общего представления об авторе столь откровенного откровения.
Встречаются такие люди, гордые тем, что они «правду любят», «говорят всю правду в глаза», «рубят правду-матку с плеча по-нашему, по-простому» и т. д., предупреждают об этом при первом же знакомстве, пристально глядя в глаза – «каково!», искренне довольные и недовольные одновременно тем, что другим с ними трудно – «кто ж нынче-то правду любит, совсем честь потеряли». Все для них всегда ясно, сомнений они – честные – не знают никогда: как-никак с правдой они накоротке, сами они – воплощенная и ходячая честная правда. Это люди, сами определившие собственное достоинство, сами давшие ему высокую оценку и эту свою честь не только не роняющие, но постоянно подтверждающие и напоминающие о ней непонятливому окружению, самозванцы. Потому и честь их трудно отличима от бесчестья, а стыд от бесстыдства.