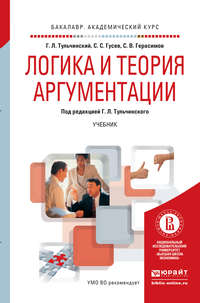Полная версия
Феноменология зла и метафизика свободы
Себе же любящий отводит роль даже и не причины такого безумия свободы другого, а уникального и привилегированного повода для этого безумия. Он, действительно, никак не может быть причиной – тогда он фактически овещняет любимого, вступая с ним в причинно-следственные отношения – отношения между вещами, – но не людьми, а это лишает свободы. Он именно повод, и хочет быть только поводом. Но это такой повод, который хочет быть всем в мире и сознании любимого. Он хочет стать символом всего этого мира, заменить его собою весь. Любящий ставится условием бытия любимого, существом, вызывающим для него солнце, поля, цветы, города, моря, других людей, звезды с неба… и вручает все это, весь мир любимому – он и творец мира и сам мир. Бог.
Любящий стремится стать божеством для любимого, таким существом для него, в котором утонула бы свобода любимого. Причем тот, свободно и радостно утонув, согласен был бы обрести свою новую данность, свое бытие и его смысл. Он стремится стать «предельным объектом трансценденции, объектом, в стремлении к которому трансцендентность Другого трансцендирует все другие объекты, но который сам никоим образом не поддается для нее трансцендированию», – красиво все-таки выражается Ж. – П. Сартр.
Бытие-под-взглядом другого, дарованное этим другим вспучивается, разбухает и хочет обязать другого своей милостью: даровать ему новое – от щедрот своих – бытие. Любящий перестает действовать на свободу другого, он требует от любимого априорного определения, ограничения своей свободы им – любящим. Он – любящий – предел свободы любимого, предел, который любимый должен принять свободно, чтобы стать свободным. Любящий хочет свободы воли любимого как воли к неволе. Требует любить его совершенно свободно. То, что требовать (оно же – хотеть) и свободно – две вещи несовместные, еще никого из любящих не смутило.
«Мы созданы друг для друга», «Если бы мы случайно не встретились, ты не любил бы меня?», «Мы не могли не встретиться»… Эти и другие классические реплики любви подчеркивают исключительность и заданность свободного решения. Влюбленные действительно гонят от себя мысль о случайности встречи, о самой возможности какой-то альтернативы. В напрочь иррациональном мире влюбленных эти вполне рациональные соображения предстают не то что иррациональными – просто абсурдными. Иначе и быть не может. Радость любви есть радость оправданного бытия – ранее случайного и необязательного, но теперь необходимого и центрального.
Утверждаясь в бытии-под-взглядом другого, любящий хочет утвердить это бытие как бытие-для-другого-посреди-мира. Ведь если другой способен ускользнуть в свое сознание, в свою свободу – он волен творить с моим бытием все что угодно, Бог знает, что он сделает из моего бытия, автором и хозяином которого является. Но если он меня любит – я спасен от этой непредсказуемой употребимости. Только став абсолютной ценностью для любимого, утвердившись для него Абсолютом, существом-посреди-мира, я получаю гарантии своего существования. Более того, получив из рук другого свое бытие и смысл этого бытия, любящий хочет сам стать смыслом бытия другого, поставить себя вне всякой системы оценок, стать для другого условием любой оценки, универсальным и абсолютным критерием и основанием всех и любых ценностей жизни и смерти.
Такой любящий – самозванец. Точнее, самозванец – хотящий быть любимым. Любовь – дар, ее нельзя хотеть – та же похоть, только духа. Слава Богу, что есть просто любящие и просто любимые. Страшны любящие-хотящие-быть любимыми. Именно они требуют подтверждений, гарантий, испытаний, жертв, допытываются – кого больше любит любимый – его или свою мать, способен ли он украсть, убить, предать ради своей любви…
Прельщение, соблазн и тройной обманЛюбимый, однако, отнюдь не желает себе влюбленности. Он сам хочет быть любимым. Поэтому любящий-хотящий быть-любимым должен соблазнить любимого, прельстить его. План любви оказывается неотделимым от плана соблазна. Реализуя его, любящий-хотящий-быть-любимым должен стать для другого значащим объектом и одновременно ничтожным перед значительностью любимого. Соблазнить ведь возможно, только подчеркнув исключительность и авторитетность соблазняемого, который если чем и соблазнится, если, что и выберет, то, разумеется, что-то исключительное, например, – соблазнителя. Азы коммерции и маркетинга.
Прельститель – любящий-хотящий-быть-любимым – должен предстать в бытии-под-взглядом другого человеком исключительным, обладателем исключительных качеств, смиренно несущим их прельщаемому другому. Предстать перед ним необходимым – тем, что никак нельзя обойти на своем пути, и тем, без чего на этом пути нельзя обойтись. Вот и застят свет, загораживают дорогу, демонстрируя себя – Непревосходимого Великолепного, коварно смиренного. Бойтесь данайцев дары приносящих.
Неспроста проблема любви угольком тлеет уже несколько веков в философском анализе понимания, смысла, значения, общения. Смысл имеет только то, к чему вы благосклонны, остальное – бессмысленно. Понимание, осмысление предполагает доброжелательное отношение, милость сердца. То, что я не люблю, я и понимать не буду, а если придется, то придется и настроиться на любовное отношение. Понять – значит объяснить, а значит – оправдать и простить. Поэтому если хочешь быть понятым – соблазни другого, в идеале – полюби его сам! Кто этого не знает, пусть внимательно перечитает рекомендации Дейла Карнеги – никакой философии, зато все понятно. Сам он – великий и искренний прельститель.
Понимание – всегда тайна, всегда сакрально, совершается в мистической глубине души как прорыв сквозь социальные определенности бытия. Не столько вопреки, сколько благодаря этим определенностям, но все-таки – прорыв сквозь них, прорыв к другому бытию, к другому – неважно кому – человеку, природе, явлению… В любом акте понимания я их одухотворяю, придаю им смысл, сопереживаю им. На этом основаны и «понимающая психология», и эм-патия, и вчувствование, и техника и искусство герменевтического истолкования. Но обо всем этом, в том числе и мною, писалось уже достаточно. Суть дела в том, что полное, без остатка «до донышка» понимание невозможно. Невозможно и потому, что «своих мозгов в чужую голову не вставишь», и потому, что «чужая душа потемки», и просто потому, что есть витальные пределы бытия и исключительная неповторимость каждого индивидуального существования.
Поэтому понимание, как и любовь, – а они прорастают друг в друга и друг в друге – великая иллюзия. Иллюзия – потому что есть недостижимый предел, великая – потому как придает осмысленность и оправданность бытию, великая энергия заблуждения. Понимание – всегда непонимание. Без непонимания понимание невозможно. Если бы понимание было возможно во всей полноте, люди просто воспроизводили бы сознание друг друга – тут же и мгновенно. Не приведи Господи. Понимая, приступая к пониманию, я понимаю, что чего-то не понимаю. Что есть нечто иное, другое, мне недоступное, и я могу лишь подступиться к нему, оплотнить его рельеф своим взглядом, но если я его пойму – в той или иной степени, в том или ином (моем!) смысле – он останется существовать, в своем сохранившемся бытии. (Если только я не подобен несмышленому малышу, который ради повышения смышленности разбирает любимую игрушку, чтобы понять ее и тем самым – сломать). Понимаю я все с другим. Понимание и любовь есть мое бытие-с-другим. Иного бытия и понимания человеку не дано.
Но стремлюсь ли я быть понятым в понимании? Или я стремлюсь добиться своего? – а это уже совсем иное дело. Как известно, согласно Б. Ф. Поршневу, язык возник отнюдь не для адекватной передачи мысли. Если бы это было так, люди бы и твердили как попугаи бессмысленные: увидит зеленую траву и говорит: «Трава зеленая», увидит, что снег идет и говорит: «Снег идет». Язык интонирован, причем интонация первична по отношению к лексике – недаром и ребенок-то сначала усваивает интонацию, лишь потом – лексику. Язык возник не для передачи мысли, а чтобы чего-то добиться от ближнего, чтобы он сделал то, что мне нужно. А для этого мне вовсе не нужна адекватная передача моих мыслей. Наоборот – сплошь и рядом хорошо бы этого избежать, скрыть свои подлинные цели и мотивы.
Так и в любви. Я хочу стать привлекательным для другого, соблазнить его на любовь ко мне, чтобы овладеть им-любящим. Но от него не требуется требовать, его любовь – «чистая преданность без взаимности» (тот же Сартр). Любящий-хотящий-быть-любимым есть свобода, разыгрывающая партию бегства от себя к другому, нуждающемуся в чем-то вне себя. Соблазнение – розыгрыш партии самоотдачи. Но именно розыгрыш, чтобы заставить другого отчуждиться от себя, раскрыться, бежать от себя для воплощения самоценного любящего.
Однако другой не может развоплотиться, сам любящий продолжает зависеть от него, ибо любимый «хранит ключ от бытия любящего». Или, другими словами того же Сартра: «Каждый отчужден ровно в той мере, в какой он требует отчуждения другого. Каждый хочет, чтобы другой его любил, не отдавая себе отчета в том, что любить – значит быть любимым и что тем самым, желая, чтобы другой меня любил, я хочу лишь, чтобы другой хотел заставить меня любить его». Другой постоянно отсылает меня обратно к своей неоправданной субъективности.
Любовь любящих-хотящих-быть-любимыми не спасает. Она ни-чтожит. Каждый ждет, что другой подведет основание под его бытие, оправдает его, сделав самоценным, а тот – другой – вместо этого погружается в свою собственную субъективность перед лицом моей субъективности. Сознания, души оказываются разделенными непреодолимым последним пределом «ничто». Фактически каждый остается в пределах собственной тотальной субъективности. Ничто не актуализирует бытие. Спасает любовь, но не любящих-хотящихбыть любимыми, а любовь как дар, в котором спасается любимый в самоотверженном воплощении любящего, и спасется любящий – в любимом.
Взаимная любовь – счастье взаимоочарования, взаимооплотнения токами взаимной, не находящей удовлетворения и оправдания субъективности. Как прозрачные тонкие щупальца тянутся они друг к другу, прорастая друг сквозь друга, пытаясь сотворить таинство голографического чуда взаимооплотнения. Это таинство бежит от постороннего глаза. Появление третьего взгляда на двоих, занятых взаимосокровенным катастрофично. Третий лишний. Как только он появится – игра становится явной. Взаимоочарование ничто улетучивается. Остается проза объектно-вещных отношений – игры на обладание: физические, физиологические, юридические, экономические отношения. Дай Бог, если испарившееся ничто оставит в сухом остатке жизненное сотрудничество, реальные конструктивные отношения, взаимное удовлетворение взаимных интересов, расчет кооперации. Чаще же остается разочарование, а то и обида – обиженное бытие вечно обиженного, обманутого и обделенного.
Любовь – тройная иллюзия и тройной обман. В себе – как система бесконечных отсылок и взаимоотражений: любить – значит хотеть, чтобы меня любили, то есть хотеть, чтобы другой хотел, чтобы я хотел его любить… Это уход в дурную бесконечность неудов-леторенности недовоплощенного и недопонятого, но жаждущего воплощения и понимания любящего.
В другом. Так как в любой момент возможно прозрение другого, его избавление от очарования ничто. Бытие любящего не гарантировано в мире, висит на волоске.
В мире. Любовь – это абсолют постоянно превращаемый в нечто относительное. Непреложная случайность и случайная необходимость. Нужно было бы остаться во всем мире только мне наедине с любимым, чтобы любовь смогла сохранить свой статус абсолютной точки отсчета. Поэтому бегство любящих от мира, их стыд перед ним и окружающими не случайны и обязательны. Не бежав, они лишаются иллюзии взаимоправдания, любимого обмана, а точнее – самообмана. Бесстыдная же любовь – не любовь по определению, в ней никто не лишний, это просто – отношения.
Самоупоение: между садизмом и мазохизмомЧем вернее я утрачиваю любовь, чем вернее лопаются иллюзии, тем вернее я остаюсь один и тем в большей степени я рассчитываю исключительно на свои собственные силы в самооправдании своего бытия. Но чем в большей степени я self-made-man, тем более я привлекателен для других. Так и появляются привлекательные, но безлюбые самозванцы – садисты. Самоочарованные собою, не знающие стыда и его лишенные – стыдиться-то некого. Остается лишь бесстыдная гордыня.
И обратная ситуация. Чем более я уничижаюсь перед другими, чем более я отдаю себя им, тем более я утверждаюсь в бытии – их любовь все более оплотняет мое бытие, и я все более утверждаюсь за их счет. Мое свободное (?!) самоотчуждение утверждает меня как цель за счет других – средства. Это уже мазохизм – само-упоение самоотречением. И это тоже самозванство, поскольку самоутверждение самоцельно. Я стремлюсь к самозабвению, к себе как средству для других, к перешагиванию через себя. И вновь моя субъективная воля становится основанием моего бытия. Ведь я хочу, чтобы через меня перешагивали. Это то же самоочарование, только с изнанки. Та же игра в бегство от себя для самоутверждения за счет других. То же соблазнение и прельщение. Фактически, мазохизм – это использование других в конечном счете как средства. Выдавая их за цель, утверждая себя в качестве средства, но лишь прельщая этим, на самом деле целью оказываюсь все равно я, а другие только средством. Мое самоотречение оборачивается третированием других.
Если садизм – бесстыдная гордыня, то мазохизм – гордыня бесстыдности. И хрен самозванства не слаще его же редьки. Садизм и мазохизм – две крайности, два полюса – объединены самозванством. Это как бы инфракрасная и ультрафиолетовая части спектра, объединяющие спектр за его пределами, с изнанки. Реальные же человеческие отношения реализуются в разноцветьи между этими крайностями, в запределье едиными, в напряжении между ними как плазма в электромагнитном тигле. Полюса действуют на противодействии. Чей-то крен в сторону садизма наталкивается на садистические амбиции другого или коррелирует с мазохизмом.
Яркая картина феноменологии обыденных любовных отношений дана В. С. Маканиным в повести «Голоса»: человек подобен жар-птичке, у которой родичи и любящие люди выдергивают яркие перья. «Однако прежде чем выдернуть перо, они тянут его, и это больно, и ты весь напрягаешься и даже делаешь уступчивые шаг-два в их сторону, и перо удерживается на миг, но они тянут и тянут, – и вот пера нет. Они его как-то очень ловко выдергивают. Ты важно поворачиваешь… свою головку, чтобы осердиться, а в эту минуту сзади вновь болевой укол и вновь нет пера, – и теперь ты понимаешь, что любящие стоят вокруг тебя, а ты вроде как топчешься в серединке, и вот они тебя общипывают.
– Вы спятили, что ли! – сердито говоришь ты и хочешь возмутиться, как же так – вот, мол, перья были: живые, мол, перья, немного даже красивые, – но штука в том, что к тому времени, когда ты надумал возмущаться, перьев уже маловато, сквозь редкое оперенье дует и чувствуется ветерок, холодит кожу, и оставшиеся перья колышутся на тебе уже как случайные… Они не молчат. Они тебе говорят, они объясняют: это перо тебе мешало, пойми, родной, и поверь, оно тебе здорово мешало. А сзади теперь подбираются к твоему хвосту товарищи по работе и верные друзья… Тебе вдруг становится холодно… но, когда ты поворачиваешь птичью свою головку, ты видишь свою спину и видишь… ты гол. Ты стоишь, посиневшая птица в пупырышках, жалкая и нагая, как сама нагота, а они топчутся вокруг и недоуменно переглядываются: экий он голый и как же, мол, это у него в жизни так вышло». Маканинский сюжет печален: из жалости на общипанного накидывают своих перьев «на бедность», а некоторые в азарте даже пытаются воткнуть перо обратно в кожу, но – дарованное – оно приносит новую боль, топорщится и криво свисает. Под набросанными на тебя перьями вроде бы можно какое-то время жить, но как только ты – голый – выбираешься из-под этой кучи перьев – тебе не прощают и наготы и самостоятельности, общими усилиями ловят, душат и, в конце концов, – отрывают голову своими теплыми, ласковыми, любящими руками.
Или, как писал А. Володин, «все больше вампиров, все меньше доноров, нехватка крови. Любящие люди сосут нас больше, чем остальные, за это и любят».
Неспроста П. А. Флоренский в «Столпе и утверждении истины» отдавал нравственное предпочтение дружбе по сравнению с любовью. Любовь – бытие-под-взглядом другого. Дружба – видение себя глазами другого перед лицом третьего[3]. Появление третьего разрушает любовь, но зато создает гарантии доверия. А доверие – минимум и одновременно – максимум конструктивных человеческих отношений. Защита от самозванства в любви – в преодолении любви? В ее самоограничении?
Любящие-хотящие-быть-любимыми не мытьем, так катаньем, не – садистически, так мазохистски преследуют и навязывают свою любовь. А любовь самозванцев – ничтожит. Она не спасает, а убивает. Очень острое впечатление оставил фильм Пичула и Хмелика «В городе Сочи темные ночи», в финале которого один из персонажей говорит примерно следующее: «Нам не хватает одной жизни. Куда деваются наши таланты, наши способности? Мы мешаем друг другу, губим друг друга, хороним». Так и бредут по жизни, ни-чтожа друг друга, превращаясь в ничтожества – неприкаянные, не нужные друг другу и самим себе, не знающие куда себя приткнуть, обреченные на самозванство – не только персонажи этого фильма: и Степаныч, выдающий себя за кого угодно – облезлое подобие героя плутовского романа, и его более удачливый, но только по привлекательности молодости, и значит – легко соблазняющий сын, и главная героиня Лена, летящая к любому яркому свету и силе, и главврач, тоскующий по инобытию, и милиционер, от столкновения с утверждающим бытием других гибнущий в конце фильма. Тоскливый фильм – как тосклива советская действительность в нем выраженная. Но историко-этническая сторона феномена самозванства на Руси и причины его нынешнего расцвета нас еще ждут в предпоследней части книги. А пока еще немного о мире кино и любящих-хотящих-быть-любимыми.
Кинорежиссер В. Аристов, автор фильма «Сатана» – фильма жесткого и жестокого, фильма, герой которого убил ребенка, изнасиловал и довел до самоубийства невесту друга и требовал выкупа у родителей убитого им ребенка, и это еще не все. Так вот, автор этого фильма утверждал в одном из интервью, что его фильм о… любви. И доказывал, как горячо любит его герой ту, ребенка которой он убил. И это не парадокс, не глумление над здравым смыслом, нравственностью и психологией. Скорее наоборот: «Для меня есть какое-то омерзительное качество в этой выспренности в любви… Любовь все может, любви все позволено… И есть, знаете, такая распущенность в мысли, что если влюбленный крушит мир от любви, то мы им восхищаемся. Есть какое-то адское, извращенное представление о любви как о вседозволенности. Вот эту-то дикую науку мой герой и усвоил».
Действительно, герой этого фильма очень даже типичный самозванец от любви. Обыкновенный, лишенный стыда и совести, самозванец, который не может себе представить боль убитой им девочки, ужас ее матери, муки обесчещенной им девушки, униженного им публично армянина, от ножа которого он, впрочем, в конце концов и погибает… Сам-то он полагает, что совесть у него есть. Более того – ведь он любит! Страдает! И все во имя любви. Себя не щадит, но и других не жалеет. Типичный анамнез самозванческой психики.
А Гумберт Гумберт – герой набоковской «Лолиты»? Впрочем, об этом феномене самозванства – чуть позже – все-таки по-своему исключительный случай.
Но так ли, например, прост ощипываемый любящий В. С. Маканина? Какое-то неуловимое мгновение, и он готов заговорить словами ницшевского Заратустры: «Да, мой друг, укором совести являешься ты для ближних своих: ибо они недостойны тебя. И вот они ненавидят тебя и готовы высасывать кровь из тебя. Ближние твои будут всегда ядовитыми мухами; все, что есть в тебе великого, – должно делать их еще более ядовитыми и еще более похожими на мух. Беги, мой друг, в свое уединение, туда, где веет суровый, бодрящий воздух. Не твой это жребий – быть махалкой для мух». Кувырок – и мазохист становится садистом.
«… Ваша любовь к ближнему – просто плохая любовь к самим себе… Вы не уживаетесь с самим собою и недостаточно любите себя: и вот хотите склонить ближнего любить вас и так позолотить себя его заблуждением». Любовь – всегда от потребности разобраться с самим собой, от потребности в себядостраивании. Это так, но разве всегда поэтому любовь – достройка себя за счет других? «Один идет к ближнему, потому что он ищет себя, другой – потому что хотел бы потерять себя. Ваша плохая любовь к самим себе делает ваше одиночество тюрьмою». Поэтому Ницше призывает любить не ближнего, а дальнего. «Те, дальше, расплачиваются за вашу любовь к ближним; и всякий раз, когда вы соберетесь впятером, кто-то шестой непременно должен умереть… Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам: я советую вам любовь к дальнему». И еще: «Будущее и дальнее да будет для тебя причиной твоего сегодня: в друге своем люби сверхчеловека, как причину свою».
Действительно, если с ближним – сплошные промашки и одни разочарования с обманами, то не лучше ли любить сам беспредельный предел – ничто, абстракцию. Небезызвестный Штирлиц – супергерой суперсериала «Семнадцать мгновений весны» и персонаж современного анекдотического фольклора, из всех людей любил только детей и стариков. Самозванцы же, в которых зовет записываться Ницше, похоже, предпочитают любить людей еще не родившихся и уже умерших. Для живых и ближних в этих сильно раздвинутых рамках любви просто не остается места. Любить ближнего тем легче, чем он дальше. Воспитывать человечество и спасать нацию легче, чем воспитать собственного ребенка и спасти беззащитного от хулиганов, измывающихся над ним у тебя под окнами. Плакать над несчастной судьбой бедной собачки в Австралии легче и приятней, чем выносить судно за своей парализованной матерью.
Самозванец любит поэтому не конкретного ближнего, да и даже не себя-конкретного, он любит ничто – уже, еще, а скорее – нигде и никогда не существующее, абстракцию, безличного человека – man, с которым себя и отождествляет. С абстракциями легче – полная свобода игры ума и выдумыванию себя. И ответственности нет ни перед кем – полная невменяемость и свобода одержимости – неудержимости.
Истина эротического садизма – предательство, безудержное стремление к отрицанию и пустоте. Вплоть до отрицания самого себя – от эгоизма к самоуничтожению, вплоть до стремления к невозможному – уничтожению самой природы. Главным, самоценным становится само преступление.
Садизм – не столько культ насилия, сколько культ власти, ничем не ограниченной воли – основания и предпосылки насилия. Маркиз де Сад, в определенном смысле является продуктом феодальных отношений, акцентуированных не экономически, а властно. Не случайно мировоззрение маркиза де Сада – столь большевистко-ленинское по своему духу. Та же необходимость в тайных обществах «нового типа» по ту сторону добра и зла. Задачей этих обществ является не только противопоставление «избранных» посвященных – профанам, но и гарантии друг от друга самим суперменам (либертенам).
Показательно, что сами либертены не отличают страдание от наслаждения, успех от неудачи, в том числе и прежде всего – собственные. «Я хочу, чтобы ты причинил мне самое великое в мире зло, совершил надо мною самое чудовищное, немыслимое преступление», – просит одна из героинь де Сада. Либертинаж как суверенитет единственного вполне соответствует категорическому императиву Канта.
Это вполне торжество зла власти и власти зла. Ведь добродетель приметна слабостью, точнее – беззащитностью перед злом, а порок – своей силой – даже в ущерб собственной жизни. Собственная смерть оказывается счастьем, поскольку является торжеством зла. Тем самым либертен становится недоступным для других. Никто не может нанести ему ущерб. Никто и ничто не может лишить его власти быть собой и наслаждаться этой властью. Это не мазохизм (как удовлетворение от унижения) и не садомазохистский комплекс (как взаимодополнительность садизма и мазохизма). Это крайнее проявление именно садизма: унижение как торжество и господство.
Не уподобляется ли либертен гению – творцу? Или святому? Более того, Страх Божий, существенно определяющий природу религиозного чувства, – разве не является он страхом (=торжеством) абсолютной власти Творца? Разве Божественное не есть отрицание человека и морали? Разве сакральное – не ужасно по самой своей природе? Жертвоприношения, поведение богов на Олимпе – разве все это не преступно с точки зрения человеческой? Разве не лежит в основе любого сакрального чудовищное преступление, безвинное распятие – например? Обыденная профанная сфера – сфера нормативно упорядоченной жизни. Сфера сакральная – сфера анормативная (с точки зрения профанной), сфера своеобразного беспредела, недоступного разумению обычной морали. И чем чудовищнее будет преступление, тем больше у него шансов приобрести сакральную ауру. Можно утверждать, что волюнтарная анормативность (вплоть до преступления и человекоубийства) есть необходимое условие задания профанного порядка и нормативности в культуре. В этом – один из многих парадоксов культуры, в которую оказывается встроен взгляд на нее саму извне. Наряду с сакральным это и смех и творчество. Основой и предпосылкой конструктивного утверждения во всех этих случаях оказывается девиация, нарушение и отрицание.