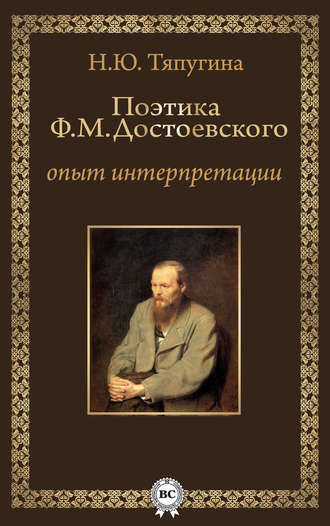
Полная версия
Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации
Вот почему истинно христианская сдержанность князя, его «странный и укоряющий взгляд» так сильно подействовали на окружающих:»
Ганя действительно стоял как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя: за ним затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ардалион Александрович… Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани и ответом князя»(121).
А слова Льва Николаевича Мышкина, обращенные к публично униженной Настасье Филипповне «Я… я вас буду всю жизнь уважать…»– необычны только с точки зрения человека, чье зрение искривлено социальными условностями и привычной жестокостью.
Любовь людей к князю Христу – это любовь к забытой норме, детской чистоте и невинности. И, что может быть самое главное, нигде нет у него учительской позы, перста указующего, зато есть смирение и осознание собственной малости. Есть мужество не изменять самому себе, быть до конца искренним со всеми, не рассчитывая последствий своего простодушия. Главное, что не было ничего рационального в отношениях Мышкина с людьми. Именно такой «добрый, честный, хороший… глупенький" является он в мечтах исстрадавшейся Настасье Филипповне.
Но как быть с героями, не имеющими благорасположения к «выпрямляющему» влиянию князя Мышкина, с такими, как Парфен Рогожин, например?
Думается, здесь мы приближаемся к главному нерву романа. Рогожин – важнейший герой Достоевского. В купели страданий и унижений обретает он свое очищение, примирившись с судьбой и миром, ощутив блаженство сострадания и братства. Трагедия Рогожина потрясает.
Бледное, неподвижное лицо Рогожина, чьи слезы смешались со слезами князя Мышкина в финале романа, его достойное смирение на суде, где приговор он выслушал «сурово, безмолвно и «задумчиво», – это лишь внешние знаки колоссальных духовных сдвигов, изменивших ландшафт его души. Велика цена прозрения: за него заплачено жизнью Настасьи Филипповны, душевным здоровьем князя, собственной погубленной жизнью Парфена Рогожина.
От Рогожина спускается тропа и в демонические пропасти земли и, одновременно, мучительно и кропотливо выстилаются ступени в вышние сферы. Эти полюса раздирают душу Рогожина. Контраст между неудержимыми земными страстями и христианским смирением преодолевался этим героем мучительно, но неустанно. И роман, перерастая рамки рукотворного, обретал свойство «евангелия третьего царства, какого-то мифа нового русского мира, апокалиптической проповеди, темной и загадочной».[63]
Рогожин слит с Мышкиным, как слиты в человеке его лучшие и худшие стороны. И это заложено в романе с первых же его строк: «В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира – оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор» (5). Кроме всего – они ровесники, им по двадцать семь лет – возраст, как помним, для Достоевского знаменательный, переломный, именно столько ему было, когда отправился он на каторгу. Момент решительного перелома судьбы и личности.
Что касается портрета Парфена Рогожина, то в нем много контрастов: он «… был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку, но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, даже до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом» (5–6).
Поначалу вольготней всего проявляются в его обличье низменные инстинкты, с уст не сходит «злобная улыбка», чувствуется привычная агрессивная напряженность. Настасья Филипповна называет его «мужиком». Ей все одно – что за него пойти, что на улицу, что в прачки, что в трущобу. «Рогожинская» – синоним, и не только для Настасьи Филипповны, – падшей, погибшей женщины. Вот почему сама возможность "разгуляться с Рогожиным» воспринимается окружающими как предел ее падения: «погибшая женщина, женщина сумасшедшая».
И в самом деле, поначалу характер Рогожина лепится автором из самых «бросовых» материалов: подчеркивается его необразованность, необузданность, стихийность. Ватага, сопровождающая его, рисуется и «разнообразной», и «безобразной», к ней вполне естественно прилепиться какому-то «беспутному старичишке».
Рогожин нелеп в своих грязных сапожищах, когда в страшном волнении от присутствия Настасьи Филипповны он в ее гостиной натыкается на окружаюшие предметы, наступает на кружева юбки красавицы-немки. Огромная бриллиантовая булавка на его шелковом шарфе изображает жука, а массивный драгоценный перстень надет на грязный палец. Контраст между алчной неразборчивостью Рогожина и душевной деликатностью князя столь велик, пропасть между рогожинским ревом: «Не подходи!.. Моя! Все мое!» – и рыцарским: «Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не рогожинскую», – столь очевидна, что Настасья Филипповна, оказавшись между этих двух полюсов, как в ловушке, была обречена метаться между гордым самоуничижением и искренним чувством любви к князю.
Но вот что важно: в оскорбительном по сути, прилюдном торге Рогожина все-таки нет цинизма. Есть любовная горячка, купеческая широта, безумие ситуации, но нет холодного расчета и желания уязвить. Кажется, что он лишь слепо повинуется мазохистскому капризу своей королевы, не вдаваясь в ее резоны и психологические сложности. А когда осознает, что князь может увести у него Настасью Филипповну, «невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди» (172). В бреду азарта он как-то упустил из виду, что поведение его – оскорбительно-кабацкое, что слишком на безобразие смахивает его любовь. Но любовь-то настоящая! И это сразу понял Мышкин, заступившись за него перед Настасьей Филипповной: «Он пьян… Он вас очень любит» (173). И впрямь не в себе был Рогожин, перемещаемый по прихоти своей королевы из надежды в отчаянье: «Он совсем отупел, точно от ужасного удара по голове». И когда сакральный маятник вновь качнулся к удаче, он, как раненый зверь, завопил: «Моя! Все мое! Королева! Конец!» Он от радости задыхался; он ходил вокруг Настасьи Филипповны и кричал на всех: «Не подходи!» (175). Эгоизм обладателя, исступление собственника поселились в его душе, заслонив всю серьезность психологической мотивировки Настасьи Филипповны: «Этакого-то младенца сгубить?» Понятно, что реплика эта обращена к сопернику Рогожина.
И то сказать, откуда у Рогожина взяться детскости? Весь строй его жизни до встречи с князем и Настасьей Филипповной отличался особенно мрачным и тяжелым колоритом, начиная от «скучного» дома «грязно-зеленого цвета», где «и снаружи и внутри как-то негостеприимно и сухо, все как будто скрывается и таится», кончая вековой привычкой обитателей этого дома к подозрительности и желчи. Вот почему ласковая улыбка, которая появилась было на лице Парфена в разговоре с князем в доме на Гороховой улице, так «не шла к нему в эту минуту, точно в этой улыбке что-то сломалось и как будто Парфен никак не в силах был склеить ее, как ни пытался» (208).
Как разуверить в тяжких подозрениях человека, доведенного ревностью и унижениями до последней черты? В первую очередь, конечно, быть с ним вполне откровенным. Вот почему князь по-детски прямодушно объявляет измученному Рогожину: «Я тебя успокоить пришел, потому что и ты мне дорог. Я очень тебя люблю, Парфен» (210). Он не скрывает, что «если бы вы опять разошлись, то я был бы очень доволен; но расстраивать и разлаживать вас я не намерен. Будь же спокоен и не подозревай меня» (210). Рогожин понял, что князь оставляет за ним право выбора, что он, Парфен, свободен в своем решении. И это при том, что глаза обезумевшего Рогожина постоянно выслеживали князя, при том, что новенький, «довольно простой формы ножик» уже был им куплен, при том, что все трое уже чувствовали энергию засасываюшей дьявольской воронки…
Христианское великодушие Мышкина побуждает Рогожина к откровенности: «Я, как тебя нет предо мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич… Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь! Вот как теперь ты четверти часа со мной не сидишь, а уж вся злоба моя проходит, и ты мне опять по-прежнему люб. Посиди со мной…» (210). На что князь ему отвечает: «Когда я с тобой, то ты мне веришь, а когда меня нет, то сейчас перестаешь верить и опять подозреваешь». И – снимает с него грех неверия: «В батюшку ты!» (210). В ответ Рогожина будто прорывает. Он исповедуется в прегрешениях, жалуется на свои страдания, пытаясь обьяснить то, что объяснению не поддается.
Исповедь Рогожина тяжела и страшна. Он бесконечно унижен своей королевой: «Как на последнюю самую шваль на меня смотрит». В нем уже нет жалости: уж слишком срамит, да и «ненавидит она меня пуще всего». Чудовищные испытания устраивает ему возлюбленная: «Да ты не знаешь еще, что она надо мной в Москве выделывала!» Настасья Филипповна безжалостно разоряет Рогожина: «А денег-то, денег сколько перевел…»
И хотя Мышкин пытается его утешить: «Ты мнителен и ревнив, потому и преувеличил все, что заметил дурного,» – но эти резоны выслушаны Рогожиным «с горькою усмешкою». Его убеждение в трагической развязке было «уже непоколебимо поставлено».
Рогожина жаль. Жаль тем более, что этот необузданный человек готов к внутреннему движению, и не только в сторону бездны. Он по-настоящему широкая натура, что, кстати, признала и Настасья Филипповна. В нем нет ничего лакейского, у него сильные страсти и большой ум. Он готов взяться и за «Историю» Соловьева. Но нет ему спасения от «напасти». Не успел он милости Настасьи Филипповны нарадоваться: «И никогда-то, никогда прежде она со мной так не говорила, так что даже удивила меня; в первый раз как живой человек вздохнул,»– как еще сильней затянулся этот трагический узел из ревности, гордости, унижения и любви. Узел, который нельзя развязать, не повредив нитей, протянувшихся между этими тремя судьбами.
Рогожин унижен Настасьей Филипповной. Он истинно страдает. И это страдание искривляет его натуру. Но оно же делает его более проницательным и понимающим. Именно к Мышкину обращает он самый важный вопрос: «А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет?» И не только понял скрытый смысл четырех рассказанных ему князем притч, но и был настолько потрясен родственностью их религиозных переживаний, что захотел немедленно побрататься с князем, обменяв свой золотой нательный крест на грешный оловянный, купленный князем у пьяного солдата. Рогожину важна мотивация князя: «…нет, этого христопродавца подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается» (222).
Его глубоко взволновало понимание князем религиозного чувства, то, что оно «ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит: тут что-то не то, и вечно будет не то… "Именно от простой бабы услышал Мышкин «такую глубокую, такую тонкую и истинно религиозную мысль, такую мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась, то есть все понятие о Боге как о нашем родном отце и о радости Бога на человека, как отца на свое родное дитя, главнейшая мысль Христова!» (222)
И открылась эта мысль Льву Николаевичу Мышкину со всей очевидностью именно в России. Вот почему истинно братское ободрение звучит в словах князя: «Есть что делать на нашем русском свете, верь мне!» (222–223)
Любимейшая идея Достоевского. Именно на христианстве примирятся противоречия и успокоятся враждующие, именно оно даст почву для взаимного понимания и братского единения. Вот почему финалом встречи на Гороховой улице стал благородный жест просветленного Рогожина: «Он поднял руки, крепко обнял князя и, задыхаясь, проговорил: «Так бери же ее, коли судьба! Твоя! Уступаю!.. Помни Рогожина!» (224)
Так началось движение от полного нравственного беспорядка к христианскому «выпрямлению» Парфена Рогожина.
Рогожин как откровение услышал от князя то, чему учит людей Евангелие: самая последняя, самая заблудшая овца, если только захочет вернуться в Божье стадо, может это сделать, и при этом она будет вдвое дороже Богу. Притчи о Блудном сыне, о Наемных работниках и о Званных на пир о том повествуют. Христианская истина о том, что Бог милосерден и к нему опоздать нельзя, в наивном и сердечном понимании князя притупила греховную исступленность Рогожина. Притупила, но, увы, не предотвратила. Взял Парфен на свою душу смертный грех. Убил ту, которой восхищался и мучился, любил и ненавидел. Произошло и невозможное, и неотвратимое одновременно. И встали вопросы: «Как, чем, зачем жить?» Великое смятение установилось в душе его.
И тогда возникает у него мысль о князе, рождается надежда на то, что самим присутствием князь поможет ему найти выход из рокового треугольника. И так важно это было Парфену Рогожину, что, проявляя чудеса хитрости и предусмотрительности, он воплощает в жизнь то, что, видимо, было его давнишним кошмаром: приводит незаметно в свой дом Мышкина, чтобы ничто не могло помешать им проститься с Настасьей Филипповной.
Поглощенный этим замыслом, Рогожин, пожалуй, мог бы и напугать князя: «… потому, я, парень, еще не знаю… я, парень, еще всего не знаю теперь, так и тебе заранее говорю, чтобы ты все про это заранее знал…» (609) О чем это он? Не о том ли он сейчас ничего не знает, что знала пришедшая в этот дом накануне, что-то решившая про себя Настасья Филипповна? Тихонько прокралась она в рогожинский дом: «Шепчет, на цыпочках прошла, платье обобрала около себя, чтобы не шумело, в руках несет, мне сама пальцем на лестнице грозит, это она тебя все пужалась» (608). Заметим, не скорого убийцу своего, а того, кто, в очередной раз пожалев ее, продлил бы ее страдания. Это было удивительно даже для Рогожина: «Я еще про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить, – куды!»(608)
Страх гнал Настасью Филипповну, но страх не за себя, а за князя: «На машине как сумасшедшая совсем была, все от страху, и сама сюда ко мне пожелала заночевать; я думал сначала на квартиру к учительше везти, – куды! «Там он меня, говорит, чем свет разыщет, а ты меня скроешь, а завтра чем свет в Москву, а потом в Орел куда-то хотела» (608). И хоть не сразу понял Рогожин замысел Настасьи Филипповны – просторечное «куды!» выдает его удивление, – но когда осознал, выполнил-таки ее страшную волю: скрыл навсегда от великодушной опеки князя.
Но почему именно так понял волю своей королевы Парфен Рогожин, нет ли в этом трагической ошибки? А может быть, дело в другом и Настасья Филипповна оказалась жертвой необузданной рогожинской ревности или же он убил ее за все причиненные ему страдания и унижения? Была ли Настасья Филипповна жертвой насилия или она сама пожелала сбросить бремя измучившей ее жизни? Вопросы, как видим, самые сущностные. И, конечно, роман содержит на них ответы.
Вчитаемся в текст: многочисленные разговоры о возможном браке Настасьи Филипповны с Рогожиным всегда сопровождаются «смертельными» синонимами: женится – и зарежет, женится – и отомстит, что за него – что в воду и т. д. И сам факт ее согласия уехать с Рогожиным в то время, как все, и в том числе сам Рогожин, знали, что любит она не его, а Мышкина, – был своего рода знаком: она готова, она хочет умереть. Метания кончились, решение вызрело, она боялась только того, что князь может этому помешать.
И в комнате, где навсегда успокоилась гордая воительница, следы жуткого умиротворения; везде разлито «мертвое молчание», на постели «кто-то спал, совершенно неподвижным сном». При этом комната сохранила следы трагедии: «Кругом в беспорядке, на постели, в ногах, у самой кровати на креслах, на полу даже, разбросана снятая одежда, богатое белое шелковое платье, цветы, ленты. На маленьком столике, у изголовья, блистали снятые и разбросанные бриллианты» (607). Заметим: не обрывки, не клочья лент и одежд. Все целое, сохраняющее красоту и выдающее лишь психическое состояние своей хозяйки, ее нервы, судорогу, спешку, – а не борьбу, не насилие. Даже маленький столик со своим подвижным грузом остался непоколебленным.
Это трагедия души, а не крови. Последствия ножевого удара выписываются автором как до удивления не кровавые: «И… и вот, вот еще что мне чудно: совсем нож как бы на полтора… али даже на два вершка прошел… под самую левую грудь… а крови всего этак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло; больше не было…» (610) Это не кровавые потоки Раскольникова. Тут другое. Парфен в известном смысле тоже жертва – жертва страсти, нрава, обстоятельств. Он проводник последней воли Настасьи Филипповны, и не будь так, не пришел бы он за своим названым братом, чтобы вдоволь погоревать вместе. Не вел бы он себя так у ее одра: Рогожин «подошел к князю, нежно и восторженно взял его за руку, приподнял и повел к постели…» (609)
Рогожин чувствует себя уничтоженным, разъятым. Он коснулся дна своих самых навязчивых кошмаров, и теперь почти сомнамбулически воплощает в жизнь последние акты этого страшного сценария. Не ясно ему только одно: как жить дальше? И эта потерянность то выливается в бредовое многословие, то сковывает немотой, то поднимает из глубин памяти «домашние», давнишние слова: «надоть», «куды», «сумлеваюсь», то вдруг, как вспышкой, пронзает воспоминанием, где в центре – все она же, мучительно-прекрасная и дерзкая «королева»: «Офицера-то, офицера-то… помнишь, как она офицера того, на музыке, хлестанула, помнишь, ха-ха-ха! Еще кадет… кадет… кадет подскочил…» (611)
И только присутствие князя, его искреннее сострадание отворили, наконец, слезы великого грешника. Брат разделил трагедию с Братом, принял на себя неподъемную ношу греха, смешал свои слезы с рогожинскими. Он погубил себя этим, как погубил себя Христос, придя к людям с помощью много веков назад. И в обоих случаях жертва не была напрасной, хотя и была трагической.
Сам грех Рогожина, кровавая его вина обретают в романе характер национального «забвения всякой мерки во всем».
В «Дневнике писателя» у Достоевского есть потрясающее по психологической точности объяснение русской натуры, которая во внезапных иррациональных всплесках подчас и раскрывает то, что надежно удерживается буднями в силках привычек и обычаев. При этом катализатором может быть что угодно: любовь, вино, самолюбие, ревность. И вот тогда, срываясь со всех тормозов, несется человек к самому краю и уже не властен он в самом себе…
И в «рогожинском» случае, и в народной судьбе – не было бы оснований для спасения, если бы в русском мире не существовало не менее упорного противодействия. И тогда «с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва – порыва отрицания и саморазрушения»(XXI, 35).
Так и Парфен Рогожин, упав на дно собственного кошмара, еще не веря до конца в его свершение, еще хлопоча в привычных житейских координатах, расставляя склянки со ждановской жидкостью возле накрытой американской клеенкой Настасьи Филипповны, начинает сколь мучительное, столь и неудержимое возвращение к своей истерзанной душе. И князь Мышкин добрым «мареевым» жестом, поглаживая грешника по лицу, помогает ему в этом возвращении. Этот инстинктивный жест, зародившись еще в здравом сознании, вывел Мышкина за пределы реальности: «Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провести дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его» (612).
Объединившись во Христе, побратавшись крестами, эти герои окончательно слились в своих судьбах друг с другом. И хотя «искушение Дьявола» состоялось, но оно повлекло за собой лишь физический распад: Мышкин, и уходя из разума, остается помощью и поддержкой Рогожину; Рогожин, и совершив преступление, не отрешен от духовного возрождения; Настасья Филипповна, и отправляясь на заклание, думает не о себе, а о князе. Так открывается одна из самых загадочных заповедей Христа: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геене» (Евангелие от Матфея, гл. 10).
И в самом деле, несмотря на трагическую очевидность финала, остается несомненная уверенность в возможность духовного преодоления распада и греха… Роман убеждает в том, что Князь Христос – это не русский мираж, а реальная, хотя и не всегда различимая перспектива.
Свобода и жребий
Из воспоминаний А. Г. Достоевской известен факт, произведший на Ф. М. Достоевского исключительно сильное впечатление и нашедший художественное воплощение в его романе «Идиот». В 1867 году, путешествуя по Европе, наслышанный о картине Ганса Гольбейна «Мертвый Христос», хранящейся в музее Базеля, писатель специально заехал в этот город и был буквально поражен увиденным.
На картине был изображен Иисус Христос, снятый с креста. Вид его был ужасен. Нечеловеческие страдания, кровавые раны на вспухшем лице, уже тронутом следами тления, производили на зрителей тяжелое впечатление. Анна Григорьевна просто не в силах была смотреть на картину и отправилась в другие залы, но Федор Михайлович замер перед ней. «Когда минут через пятнадцать-двадцать я вернулась, – пишет в своих воспоминаниях А. Г. Достоевская, – то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии».[64]
А в «Дневнике 1867 года» жена писателя зафиксировала такую важную деталь, касающуюся смысла потрясшей его картины: «Она страшно поразила его, и он тогда сказал мне, что «от такой картины вера может пропасть».[65]
Знакомство Достоевского с картиной Гольбейна произошло как нельзя кстати. В это время писатель напряженно обдумывал план романа о человеке, который стремится внести гармонию и примирение в разрозненное современное общество. Достоевский искал художественные «механизмы», с помощью которых можно было бы осуществить это. Образ Христа, как уже было сказано, естественно возник уже на стадии замысла. И вдруг – Спаситель, один вид которого вызывает не столько сострадание, сколько ужас от «темной, наглой и бессмысленно-вечной силы, которой все подчинено.» Именно так сформулировал свое впечатление Достоевский, передав его в романе изверившемуся, разочаровавшемуся в жизни Ипполиту Терентьеву, для которого картина явилась еще одним весомым аргументом в пользу того, что в страшном владычестве действительности вере просто не за что зацепиться. Вот почему и возникает у героя кощунственный вопрос: «И если б этот самый Учитель мог увидеть свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взошел на крест и так ли бы умер, как теперь?» У Ипполита положительного ответа на эти вопросы нет. Он убежден, что темные силы действительности одолеть нельзя.
«Вера пропадает» и у Рогожина, который не только повесил копию картины у себя дома, но и любит на нее смотреть. На эту картину в доме Рогожина и натыкается взгляд князя Мышкина. И хотя «ему было очень тяжело и хотелось поскорее из этого дома», князь со всей искренностью отвечает на тот главный вопрос, что ему почти на ходу задал Парфен Рогожин: «А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога аль нет?»
Так картина Гольбейна оказалась важным смысловым центром романа. Страх и ужас на картине Гольбейна «Мертвый Христос» не были побеждены живой любовью, на которой Христос утвердил свою веру. И чем талантливей такого рода работы, тем более мучительное, болезненное впечатление они производят. Вот почему первая реакция Достоевского на картину – «как бы испуган»: слишком не совпадал живший в нем образ Христа, с тем, что по-своему убедительно изобразил художник.
Конечно, судьба Мышкина, как и судьба Христа, трагична. Пришедший в этот мир со светом и добром, он в итоге оказался погруженным во тьму безумия. Но внутренний свет романа сохранился. Идет он от князя, не теряясь во мраке кровавой развязки. Думается, это было не только самым трудным, но и самым главным для Достоевского.
Именно христианский дух и воплотил Достоевский в романе, сделав его произведением, научающим любви и свободе. Потому что «свобода в христианстве есть не формальная, а материальная Истина. Сама Истина Христова есть Истина о свободе».[66]




