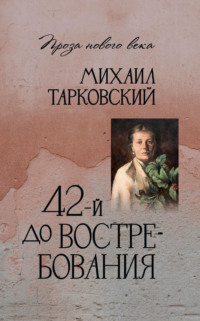Полная версия
Енисей, отпусти! (сборник)
– Хочешь получить от меня подарок – съешь сначала моего кислого яблочка…
Вот попробовал ты ее кислого яблочка – и словно чудо произошло: уже не страшно, что иголки плывут, а тебя больше нет: плывите, мои золотые, плывите да напоминайте нашим детям – кто служит вечной красоте, не стыдится повторений.
Повести
Стройка бани
1«Батя, сделай мне рыбы… – писал из Красноярска Серега, – путевой, осетрины, ведра четыре, флягу, короче, молочную, на “Матросове” у меня Славка, механик, он в курсе…» Серега кратко рассказывал о своих делах, желал отцу здоровья и обещал прислать электродов, проволоки-нержавейки и бутылку тормозухи – зимой в замки заливать – милое дело. Иваныч, только что слезший со сруба новой бани, долго засовывал толстыми в корке мозолей пальцами прочитанное письмо в конверт, потом некоторое время сидел на диване, глядя в пол, крепкий, как кряж, большегубый, курносый, с твердым нависающим чубом, с мясистым, как бы надвое рассеченным лицом (глубокая складка меж бровей, над губой и на подбородке), и рядом, почти отдельно, сама по себе лежала такая же крепкая и мясистая его рука, темная и тяжелая загорелая кисть, даже в расслабленном состоянии стянутая мышцами и мозолями и похожая на клешню, все будто продолжающую сжимать рукоятку молотка или топорище. На внешней горбатой стороне толстой кисти темнела продолговатая лиловая шишка: Иваныч ворочал мокрое после дождя верхнее бревно – сруб новой бани тогда как раз дорос до уровня лица – оно крутанулось, и кисть попала между скользким круглым боком и острым краем только что выбранной чаши. В ту же секунду автоматически пронеслась мысль: «как соболь в кулемке»[2], в ту же секунду, приподняв балан[3], он освободил руку. На ней белела яма и алели мелкие капельки крови, Иваныч сунул ее в бочку и держал, пока ледяная вода не перебила боль, потом, вынув, пошевелил пальцами, убедившись, что сухожилия целы, и ушел точить цепи. На кисти вспух бугор, она несколько дней болела, но это была приятная боль, боль жизни, что ли, и он согласился бы испытывать такую боль каждый день, если б можно было сменять на нее ту неизлечимую болезнь сердца, с которой он два года назад попал в краевую больницу и которая теперь так неотвратимо меняла его жизнь.
Выйдя из больницы с диагнозом ишемия, Иваныч, несмотря на всю незавидность своего положения, на необходимость расстаться с любимым делом – промысловой охотой, стал как-то еще кряжистей и духом, и телом и, сбавив внешний пыл, перешел на какую-то пониженную передачу жизни, от которой, как у трактора, медленней, но неумолимей стало его упрямое движение вперед.
Новый, шесть на десять, рубленый дом он успел закончить, еще когда был в силе, а старая банька уже никак не смотрелась рядом с высоченным восьмистропильным кубом, давно превратившись в заваленную барахлом подсобку, где варился корм собакам и где он обрабатывал «ондатров». Еще хотелось проверить, обкатать эту свою новую пониженную, и еще Иваныч по-настоящему страдал без хорошего пара.
Лес на баню уже был давно готов и лежал на лежках возле площадки. Чтобы никого не звать подымать баланы, Иваныч сделал журавль. Сходил на пилораму к Сварному Генику, голубоглазому молодому мужику с очень хорошо растущей бородой, всегда выручавшего с искренней охотой, с полуслова понимая необходимость нового самоловного якоря или ремонта щечки балансира[4]. «Какой разговор Иваныч – заварим», – сказал он и, ворочая сварочный агрегат, продолжал рассказывать, как ловил тайменей «под камнями», сопровождая рассказ словечком «ага», с помощью которого как бы сверялся с какой-то своей внутренней правдой, отчего его рассказ приобретал особую независимую достоверность. Толковый и редко пьющий, Геник, выпив, становился неожиданно задиристым и вязким и однажды, когда гуляли у Иваныча, безобразно докопался до Иванычева друга Николая и тот выкинул его с крыльца. Утром, встретив Иваныча, Геник приветливо поздоровался и спросил: «Я че, говорят, бузил вчера?» и, как механик о привычной и исправимой неполадке, добавил рабочим тоном, что, мол, надо было кое-чего подбросить, на что Иваныч, хохотнув, ответил, что примерно так и сделали.
Из-за плохого контакта не сразу прошел ток, и Геник несколько раз постучал электродом по железяке, на что каждый раз напряженным гулом отвечал аппарат, а потом с сухим шипящим треском заработала сварка, и Иваныч, отвернувшись, глядел, как озаряется неестественно ярким голубым отсветом трава, видел искры, синий дым, вдыхал едкий запах и, держа в верхонке горячий прут, наощупь прижимая ее к другому, почувствовал, как его наконец прихватило по некоей новой устойчивости, легкому общему зуду всей схватившейся конструкции. Между рукавом и верхонкой оставалась полоса голой кожи и одна искра, раскаленный кусочек электрода, попала туда, прилипла, прожигая кожу, и снова Иванычу стало хорошо от этой ласковой боли, снова повеяло продолжающейся жизнью, чем-то живым и поправимым. Отбивая шлак, он стучал молотком по шву, и тот еще некоторое время продолжал рубиново светиться, а потом потемнел и стал блестяще-синим. Потом они приварили к обрезку толстой трубы дно и получилось что-то вроде кастрюли, прожгли в дне дырку, в которую вставлялась уключина, и кастрюлю эту он надел, как шапку, на вкопанный рядом с будущей баней столб, в уключину легла длинная вага и получился журавль.
Потом Иваныч сделал новую пазовку (прямое тесло)[5] – уж очень хотелось пустить в дело один старый топор, который он выменял у своего друга – Коляна. В кузнице монотонно гудел компрессор, Степка, разворачивавший в тисках светящуюся обойму от подшипника, кивком поприветствовал Иваныча и глазами указал на горн. Иваныч положил топор в раскаленную кучку углей на решетке и, подгребая кочережкой, досыпая совком свежий уголь, глядел, как раскаляются до радостной рыжины угли от дующего из-под решетки ветра, как взвиваются оранжевые искорки, а когда засветилось ярким солнечным светом лезвие, взял его щипцами, быстро вложил в тисы и затянул, и, вставив в проушину ломик, повернул его коротким движением, и волшебно-мягко развернулась раскаленная проушина, остывая, темнея, лиловея, и он снова нагрел, и снова довернул, уже совсем поперек. Степка держал лезвие, а Иваныч, напряженно и свирепо сморщив лицо, долго оттягивал его кувалдочкой, обковывал, заворачивал углы лезвия вокруг тисочного конуса, а потом, снова накалив, сунул в квадратное ведро с черным маслом, и металл зашипел, выпустив дымную струйку, и, глухо захлебнувшись, замолк, а потом вытащил безжизненно холодный топор, вытер тряпкой и долго обрабатывал на наждаке, и летели сочные искры и на неряшливо-буром металле ширилась ровная снежно-синяя полоса свежего лезвия.
Обратно Иваныч шел мимо кирпичной дизельной, и оттуда мощно, с мерной отчетливостью тарахтела толстая труба с неровным торцом, и сотрясалась земля вокруг, и белело светлое северное небо над реденькими остроконечными елками, и шел ночной парок изо рта, и рядом черный, как черт, Лешка-дизелист, наклонив бочку, наливал в помятое ведро масло и, несмотря на неудобную позу, понимающе-приветливо кивнул Иванычу, и потом долго было слышно, как он заколачивает молотком пробку.
Из давно высушенной заготовки, Иваныч сделал топорище той единственно прекрасной формы, которая раз удавшись, уже навсегда остается с тобой. Потом насадил новую пазовку и пил чай, и боковым зрением видел свежую белизну топорища, и лежала отдельно правая рука Иваныча – темный горбатый кусок плоти, знающий и помнящий гораздо больше, чем способна вместить человеческая голова, и похожее на тяпку с полукруглым лезвием тесло стояло уже с тем отдельным, самостоятельным видом, с каким стоят, будто всю жизнь, вышедшие из-под мужицких рук топорища, лодки, дома… Перед сном Иваныч прошел через огород к окладу бани. Было очень тихо, внизу чуть шелестел потихшей волной Енисей, и в синих, казавшихся в белом ночном свете особенно литыми, чугунными, листьях капусты лежали, как слитки олова, продолговатые лужицы воды от дневного дождя. Листвяжный оклад белел с тем задумчивым и загадочным видом, с каким белеют ночью такие вот оклады и срубы, в своей неподвижности будто еще сильнее излучая мощную силу работы.
Прохладным солнечным деньком съездил Иваныч за мохом в свое место по Сухой, привез в когда-то красной, а теперь обшарпанной до матовой серебряности «обухе»[6] пятнадцать мешков длинного ярко-зеленого кукушкина льна. За сруб взялся не торопясь, это была первая настоящая работа после больницы, от ее успеха зависела вся его жизнь, с таким скрипом прилаживающаяся к болезни. Он не спеша размечал бревна, выбирал чаши и пазы, и острый ковш нового тесла, как в масло, входил в желтую сосновую мякоть. Внутреннюю, избяную, сторону бревна он опиливал вдоль «Дружбой», стоя одной ногой на бревне, а другой на положенной вдоль лафетине, а потом крутил кверху плоскостью и строгал электрорубанком – тесать «в стене», как он это делал в доме, было уже тяжеловато. Уже выработался определенный ритм работы, однажды нарушив который, он потерял потом два дня на отлеживание и жранье таблеток. Стараясь особо не утруждаться, он клал в день по венцу, и еще надо было съездить по самолов, посолить рыбу, сварить собакам, и, конечно, первый день было особенно тяжко, но на второй Иваныч почувствовал, что, если не будет горячиться, то, похоже, управится. Когда пришло письмо от Сереги, он уже обшивал фронтон дюймовкой.
Доски на обрешетку лежали рядом на прокладках, так же как и уже подогнанные друг к другу стропила с затяжками, сложенный стопой шифер и кирпич. Заготовки на косяки и на дверь тоже давно были готовы, он выпилил их еще прошлой весной, распустив «Дружбой» прямую толстую кедру. Он вообще любил пилить вдоль и, крепко всадив в бок балана острый зуб гребенки, с ровным усилием погружать в кедровую мякоть свежевыточенную цепь и глядеть, как сыплются из-под нее обильные длинные опилки. Толстый балан быстро превратился в стопу белых досок. Сохли они у него все лето, накрепко прибитые скобами к стене мастерской. Когда он прибивал их, зашел за дрелью младший Николаев парень, тоже Колька, и с любопытством наблюдал Иванычеву работу, а потом каждый раз приходя, все трогал шероховатую, с косыми следами цепи, поверхность и все представлял, как, просыхая, корчится, из кожи вон лезет, стремясь изогнуться пропеллером, распятая доска.
Серегино письмо, как обычно, растревожило, напомнило о том, о чем Иваныч старался не думать, о том, что сын уже несколько лет живет в городе, живет совсем по-другому и все то, на что Иваныч положил жизнь, ему попросту не нужно. А сделано было действительно много – кусок дикой тайги в ста верстах от Енисея он превратил в отлично оборудованный участок с избушками, лабазами и путиками[7], первым пробил долгосрочную аренду участка с правом передачи по наследству, причем обсуждение последнего условия попортило ему особенно много крови, отгрохал новый дом на угоре на самом лучшем месте над Енисеем, выдержав тяжбу с районным архитектором, навязывавшим свой план застройки, выгнал из тайги и отремонтировал брошенный экспедицией вездеход, расчистил и расширил запущенный покос, сделал еще тысячу малых и больших дел, которые имели бы смысл, если б Серега остался, завел семью, и они тогда бы вместе снова держали корову, и Иваныч бы переписал на него участок, но Серега далеко, и вся жизнь Иваныча рассыпается и требует теперь особенной внутренней собранности.
…А денек был хороший, и Иваныч любил работать на срубах, где уже дует свой верховой ветерок, и откуда как-то по-другому видится деревня, крыши, все, что творится: вот поехал под угор за рыбой тракторист Сашка-Самец, вот сосед примчался с самолова и озираясь тащит на угор колыхающийся мешок с осетром, вот приехал с покоса его друг Николай, вот покрикивает он на своих сыновей, недостаточно дружно, по его мнению, вытаскивающих лодку, вот они поднимаются, старший тащит пустую канистру, средний – топор, а младший, Колька, – котомку с пустой молочной банкой, сам Николай с нажаренной солнцем рожей бодро приветствует Иваныча – резко поднятая согнутая в локте рука и сжатый кулак – и Иваныч, отложив доску, отвечает тем же. А потом притарахтел и ткнулся в каменистый берег почтовый катер, потом Иваныч спустился пообедать, и тут маленький Колька принес письмо. «Ладно, нужна рыба – значит будет», – сказал Иваныч, стряхнув задумчивость, вышел на улицу и поглядел на небо.
Обычные для этих мест перепады давления он переносил все труднее, и особенно тяжело было, когда задувал север, его любимая погода – ясная, холодная, с водяной пылью над взрытым ветром, синим, налитым металлом Енисеем и рыжим ночным небом.
Раньше он завидовал дедкам-пенсионерам, у которых наколото березовых дров на три года вперед, всегда запасена береста на растопку и охапки лучины, завидовал снисходительной завистью молодого сильного мужика, у которого невпроворот забот поважней, чем заготовка черешков для лопат. Теперь он понимал, что это не от хорошей жизни и что этот же дед, если б так не болели ноги и спина, сам бы с удовольствием летал на «буране» на яму, подныривал самоловы[8], а не щипал бы впрок вороха лучины, не забивал огромные дровяники мелко наколотыми березовыми дровами и не ремонтировал чужие старые невода, стараясь как можно плотнее занять зыбкое стариковское время.
Первое время Иваныч все надеялся, что привычная обстановка, будь то выученное наизусть очертание берегов или любимые, давно знакомые предметы, вдвойне сильные какой-то своей драгоценной потертостью, поддержат его, вытянут из беды, и так верил в силу всей этой обстановки, что часто в пылу, в реве мотора и свисте ветра не замечал ни боли, ни тяжести в груди и, только вернувшись домой, с ясной досадой понимал, что ничего не изменилось и что зря он себе морочит голову.
Но главном было то, что между состоянием борьбы за существование, которое он испытывал в особенно тяжелые часы, когда нестерпимо давило за грудиной, ломило лопатку, отнималась рука и вся остальная жизнь с ее заботами отходила куда-то совсем далеко, и между этой самой жизнью не было никакого зазора, никакой передышки, будто можно было или только падать в пропасть, или карабкаться по жизни, по ее бесконечным и необходимым делам, потому что едва он приходил в чувство, сразу начинались дрова, вода, еще что-то, что вскоре понадобится и о чем надо уже сейчас подумать, вроде животки, которую если с осени не поймаешь и не посадишь в ящик в озере, то не на что будет зимой ловить налимов и прочее, и что если еще вчера ты почти навсегда распрощался со всем окружающим, то сегодня надо было возвращаться в него и как ни в чем не бывало двигаться дальше.
Иногда хуже всякой погоды отравляла мысль о Сереге. «Надо же такое ляпнуть, “скучно” здесь, что за натура такая, – думал Иваныч, для которого участвовать в смене сезонов было интересней всякого путешествия. – И вообще… Раи нет, Серега в городе… Зачем строю? Эх, Рая, Рая…» И он некоторое время думал о своей шесть лет назад умершей от рака жене – очень доброй, немного странной и насквозь больной женщине, с большими навыкате глазами и таким количеством прожилок на них, что казалось, и слезы ее тоже должны быть в прожилках.
Хотя Иваныч и говорил, что не знает, мол, зачем строит, все он прекрасно знал, и то, что дела надо доводить до конца, и то, что скорее умрет, чем позволит пропасть многовековому мужицкому опыту, и то, что ненавидит всякую времянку, халтуру, лень и презирает того давнишнего мужичка, у которого он однажды ночевал: в его избушке было полно щелей, но тот, вместо того чтоб их добром проконопатить, каждый вечер затыкал уши ватой, съедал две таблетки аспирина и, натянув шапку, заваливался спать.
Иваныч зачем-то еще держал участок, платил аренду, но было ясно, что придется с ним расстаться. Он продолжал обсуждать с мужиками-товарищами погоду, высказывать наблюдения и соображения о предстоящем сезоне, входил в их проблемы, будто тоже собирается в тайгу, будто не знает, что этого не будет больше никогда… А все так ярко стояло перед глазами: осень, заезд, груженая деревяшка, волнистые берега с растрепанной тайгой, Сухая – широкая, мощная, плоская, в водоворотах зыбкой мыри река, пласт прозрачнейшей голубоватой воды, которую хотелось выпить, навсегда принять в душу, чтоб она уже больше никогда не мучила, не снилась, не изводила больничными ночами… Добраться под вечер до первой избушки, уже в темноте с фонариком сходить на берег, проверить лодку, груз, принести ведро воды, с которой обязательно зачерпнется несколько камешков… Кому, кому теперь передать эту изученную до каждого камня реку, избушки, выросшие на твоих мозолях, эти затертые нары, стол, отполированные портянками вешала над печкой?… А даль меж мысов, завешенная будто светящимся снежным зарядом, а ночное, полное звезд небо после долгой непогоды? Бывало, неделями не видишь этой красоты, смотришь на небо только по делу, переживая за сено или дорогу, а на берега – с веревкой от кошки в руке, ожидая, пока сойдется створ с высокой елкой[9], но вот небольшое окно в работе – и взглянешь на пелену дождя, растворившую берега, и так обдаст далью, будто ты все еще тот паренек, какой когда-то сюда приехал – только тогда красота была новая, яркая, а сейчас знакомая, притертая, как старый инструмент, который любишь за вложенную в него душу.
И опять эта осенняя Сухая, пятисоткилометровая река, стекающая с низких голых гор, широкая и очень мелкая по сравнению с этой шириной, и россыпи камней у берегов, по которым все льется, журчит вода, и красные осыпи высоких яров, под которым вода тоже красная, и избушка на высоком берегу, и ночевка, а с утра снова дальше, а небо уже почти зимнее, вроде бы затянутое, но облачность высокая и прозрачная, и все – и мотор, и камни, и вода – все особенно металлическое, серебристое, алюминиевое. А вечером вдруг выйдет перед закатом ясное, сдержанное солнце, будто смущенное собственным теплом, и нальет воду холодной синью, а наутро вроде бы светло, но опять как-то серо, серебряно. Крокнет, кувырнувшись на крыло, ворон, и тишина, лишь мощно и отстраненно грохочет вдали длинный и глубокий порог, сжатый двумя каменными грядами-коргами, и сереют пожухлые кусты перед облетевшим лесом, и дымно лиловеют голые березы, и лиственницы тоже осыпались и стоят обнаженные, вздев свои изогнутые пупырчатые ветви, и лишь темнеют кедры и ели. И все – и металл, и свет, и тишина, не то чтобы скорбные, а какое-то очень глубокие… Будто подбирает сама в себе что-то природа, и в тебе тоже все подбирается, подтягивается ожиданием и светлой тревогой. Утром падает за ночь вода, и лед сначала обтягивает камни стеклянными куполами, а потом, лопаясь, топырится угловатыми кусками матового стекла вокруг вылупившегося булыгана, и вода уходит от берега, и если разбить голубое кружево, там окажется сушайшая галечка, и уже схватило морозцем подстилку в тайге и ноги в юфтевых броднях с матерчатыми голяшками уже зудят и готовы бежать за дальний хребет. И все за тебя и зовет, и говорит: только работай и не ленись. Вот и хлеб замерз и уже не зачерствеет в прибитом к елке ящике, вот лодка будто сама вылезает на обледеневшие камни, вот и рыбу солить не надо, сложил на лабазок – и она так и схватится вместе с розовой слизью оползшим пластом. А поначалу вроде нет птицы, ни белки, ни соболя, а потом глядишь, засвистел рябчик, собаки глухаря подняли, а вот и первый соболь – внимательная ушастая голова в развилке лохматой кедры и уже пора настораживать[10]. Так всегда торжественно и веско произносится это слово – не потому ли, что осенью каждый действительно будто настораживает в себе чуткое к невыразимой красоте природы сердце охотника?
Где-нибудь у капкана с очепом[11] возле кедры с длинной рыжей затесью нахлынет старинное воспоминание, засветится, как заплывшая смолой затеска на душе, сделанная десять или двадцать лет назад, когда первый раз шел здесь, рубил путик, вспомнилось что-то далекое и оно теперь на всю жизнь привязалось к месту, и так и вспоминается уже столько лет подряд, не давая покоя душе.
Край яра, откуда видна продолговатая листвяничная сопка какого-то очень таежного вида и поворот реки, особенно волнующие, когда идет снег и очертания хребта едва угадываются в снежной дымке. Здесь вспоминал Иваныч далекий год, Слюдянку и похожего на кряж деда с упрямой седой головой. Он глядел на сизый Байкал, на длинные, набегающие со спокойным гулом валы, на синие зубчатые горы на той стороне и говорил кому-то, стоящему рядом: «Седо-о-ой, красавец, батюшка…», и такая великая и неподдельная гордость звучала в его слегка дрогнувшем голосе, что Иваныч до сих пор не мог спокойно вспоминать об этом дне, хотя сам был теперь почти таким же дедом.
Длинная, очень основательная кулемка в редком и необыкновенно аккуратном кедраче перед подъемом в гору. Здесь Иваныч вспоминал Гаврилу Теплякова, мужика, у которого стоял искусственный клапан на сердце. Раз тот поехал по сено, но ударил мороз и он не смог завести свой тоже еле живой «буран» и пришел пешком, а потом они с Иванычем, тогда еще молодым, ездили за «бураном». И был мороз, и тянул хиус, и на покосе стоял заиндевелый старенький красный «буран», и следы на истоптанном снегу, и круглый отпечаток паяльной лампы, и копоть, и сгоревшая спичка, были особенно неподвижны и покрыты мельчайшей голубой пылью. Иваныч раскочегарил паялку до реактивного рева, до прозрачной газовой сини из побелевшего сопла и долго грел черную от копоти ребристую рубашку цилиндра, стараясь не жечь и без того оплавленные провода. Помнил он медленные движения Гани, как тот тяжело дышал, время от времени морщился и потирал левую половину груди, синяки под его усталыми глазами и красные веки, и спокойную и твердую руку с выпуклыми жилами и татуировкой «Ганя», не спеша прилаживающуюся к пластиковому огрызку стартерной ручки. Потом затарахтел «буран», сначала на одном цилиндре, потом на обоих, и клубилось вязкое белое облако выхлопа и часть его гнутыми волокнами утекала под капот в вентилятор, и Иваныч заткнул «вертилятор» тряпкой, чтоб сорокаградусный воздух не охлаждал и без того холодные цилиндры. Потом они накидали сено на сани, и когда увязывали воз, Иваныч, не рассчитав силы, слишком сильно потянул веревку и сломал промерзший, нетолстый, с экономией сил сделанный Ганей бастрик[12], и, измученный напряжением вечного нездоровья, Ганя вспылил, сказал в сердцах: «Да что за такое наказание!», и хотя это относилось скорее не к Иванычу, а ко всей жизни, было смертельно досадно за свою неосторожность. Иваныч быстро вырубил новый бастрик, они увязали воз и поехали. Как назло, напротив Самсонихи у Иваныча вдруг перехватило топливо и он остался снимать насос, а Ганя, шедший передом, ничего не видел из-за воза и вскоре скрылся за мысом, а потом, отцепив сани, вернулся и терпеливо ждал, пока Иваныч ставит насос и разбирает карбюратор. Привычно стыли мокрые от бензина пальцы, кусалось железо, и Иваныч, чувствуя, каким напряжением дается Гане и это возвращение, и ожидание, старался делать все быстро и был до тошноты зол на себя и за бастрик, и за карбюратор, и чувствовал себя ничтожным по сравнению с этим мужественным и терпеливым человеком. Потом они сидели у Гани за бутылочкой и тот рассказывал про мужика в больнице, который лежал не первый месяц, готовый к операции сердца, и который все, как он выражался, «ждал мотоциклиста», и Иваныч представлял себе этого мотоциклиста, молодого, бесшабашного и не подозревающего о том, что его ждет. Ганя вскоре переехал под Красноярск.
У ручья, текущего, как по дороге, по огромным камням, зарастающими ледяными шапками, он вспоминал, как умирала от рака Рая. Ее измученные виноватые глаза в прожилках, и то, как она говорила, что, мол, скорее бы уж, а сама, бедная, все просила лучше закрывать дверь, «а то продует», и то опустошающее облегчение, которое испытал он, войдя в комнату и увидев ее каменное лицо, восковой лоб и темную струйку мертвой крови из неподвижно приоткрытого рта.
А у большого капкана на краю тундры[13] вспоминалось детство, дед и покос. Дудка, хвощ, таволожник, волосянник, который мужики называли крепким словом с прибавкой «…волосник». Как шел ранним утром по покосу, спотыкаясь о срезанные дудки, в которых вогнуто стояла ночная вода и весело брызгала в глаза, а потом спросил у деда, откуда вода, если ночью дождя не было? Дед ответил с каким-то почти возмущением от его необразованности, что при чем тут дождь, «земля-то гонит!» и велел скидывать сено в копны. Еще он лазил по тальникам с казавшимся тяжеленным топором и рубил подпоры, и было нестерпимо жарко и вилась тучами мошка, залезая под рукава, в штаны и в глаза, и он брал у деда мазь из дегтя с рыбьим жиром и мазал изъеденное потом лицо. А когда он лежал в кровати с закрытыми глазами, все шевелилась в руках блестящая рукоятка вил, пересыпалось перед глазами сено, и все цеплялась, не слезала с зубца трехрожек, увядшая макаронина дудки, и все это отвлекало, не давало заснуть, и стало спокойно на душе, только когда он представил, как тихо сейчас на покосе, как стоят литовки и вилы у зарода[14], как молчит скошенная трава, и продолжая в тишине таинственную работу, гонит воду неутомимая земля, наполняя соком срезанные мертвые дудки.