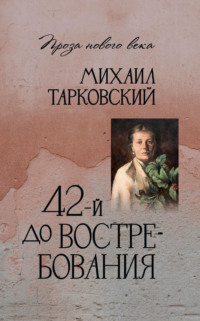Полная версия
Енисей, отпусти! (сборник)
С Николаем они встречались редко, раз или два в месяц, чаще всего в главной избушке, заранее рассчитывая время, чтобы прийти в один день. Когда этот день наступал, Васька, волнуясь еще с вечера, вставал намного раньше обычного и, подходя краем Бахты к знакомой ложбине, издали высматривал полоску лыжни на снегу или столб дыма среди пестрого от кухты леса. Но обычно он приходил первым и, таская на нарточках дрова для бани, то и дело прислушивался и выбегал на высокий угор в надежде увидеть вдали у мыса три шевелящиеся точки. Потом возвращался в избушку и, томясь ожиданием, пил чай, крутил приемник и вдруг вскакивал от громкого лая, без шапки выныривал на улицу и, отбиваясь от собачьих приветствий, слышал далекое и мерное шуршанье лыж. Вскоре появлялся Николай, весь белый, с белой бородой, с березовой лопаткой под мышкой и кровавой белкой у пояса, с сосульками на усах и улыбкой, еле раздвигающей застывшие губы. Иногда они менялись ролями, и как было приятно, до темноты провозившись с соболем, застрявшем после выстрела в толстой и лохматой кедре, подходить по свежей лыжне к светящемуся окну и видеть, как бьется во тьме рыжий хвост пламени над трубой. Валит пар из приоткрытой двери, рябчики скворчат на сковородке, а из рации, к большому удовольствию сытого и разомлевшего Николая, доносится пискляво-игрушечный разговор какого-нибудь «Тринадцатого» с «Перевальной», обсуждающих способы ремонта «дыроватого» ведра. Раз на другой день после такой встречи, возвращаясь с дороги, Васька увидел напарника на крыше, скидывающего лопатой скрипучие кубы снега. Он было кинулся помогать, но Николай раздраженно осадил его: мол, мог бы и сам давно догадаться, что крыши здесь никто перекрывать за него не будет. У Васьки одеревенели губы от обиды и он ушел в избушку пить чай, сразу показавшийся безвкусным, хоть он и мечтал о нем весь день. Впредь он стал еще более внимательным. Заметив, что Николай всегда, уходя, оставляет с избытком мелко наколотых дров, он стал оставлять еще больше и еще мельче наколотых, и между ними даже завязалось что-то вроде игры с возрастающими ставками, из которой Васька вышел победителем. Николай, видя Васькину покладистость и отдавая должное его упорству в охоте, раз от раза становился доброжелательней и словоохотливей. На Новый год они просидели до пяти утра. Николай, первым вспомнив случай со снегом на крышах, признался, что «после сам переживал» и что «наверно, язык не отсох бы все добром объяснить, а не реветь попусту». Он усидел почти бутылку спирта, и Васька потом долго вспоминал истории про непутевых напарников, которых у Николая была целая коллекция и которые, хоть и стоили друг друга, но изводили его по-разному. Был один, Борька, все приговаривавший во время сборов: «Тайга – это тебе не водку трескать». Залетали они в тот год на вертолете. Николай разделил груз на две части: с одной высадил на главной избушке Борьку, а с другой полетел на Ягодку, откуда тот должен был забрать его на лодке. Но шло время, а Борька все не появлялся. Николай забеспокоился, пошел к напарнику сам, шел два дня, промок до нитки, перебираясь через Хигами, и обнаружил в теплой избушке невредимого Борьку, храпящего среди пустых бутылок. «Хоть бы глоток, подлец, оставил», – подумал Николай, а кончилось все просто: на другой день он помог Борьке стащить на воду старую деревянную лодку, и тот послушно отбыл на ней в деревню. Однажды Николай чуть не погиб от аппендицита. Рация, как обычно, была на Холодном, а прихватило его совсем в другой стороне. Он ковылял оттуда несколько дней, пришел ночью и чудом застал на связи охотника из соседнего поселка. Вылетел вертолет, Николай пошел его встречать на Бахту, и его нашли в снегу без сознанья с тускло горящим фонариком в руке. В каждой избушке у Николая висело по школьной тетрадке. В такой тетрадке красивым почерком было записано, что такого-то числа охотник Шляхов пришел с Холодного, (не видал ни следушка), а такого-то ушел на Ягодку, мороз столько-то градусов. Но особо запомнил Васька другую запись. Она кончалась словами: «пишу стоя на коленях жалко мало пожил». Постепенно Васька начал понимать, что за желчностью Николая стоит вовсе не какая-то вредность характера, а обычное недоверие битого жизнью человека. Он с облегчением чувствовал, что этого недоверия остается между ними все меньше и меньше. Особенно потеплело на душе у Васьки, когда в одной из избушек появилась сделанная руками Николая крутилка для цепочек. В отношениях с людьми Ваську все больше удивляла обманчивость внешнего впечатления. Он всегда с интересом слушал разговоры по радиостанции и даже придумал игру: представлять себе по голосам разных охотников, а потом сверяться у Николая. Часто все выходило совсем не так, как он думал, и придурковатый заикающийся «Еловый» оказывался лучшим охотником района, а бойко и грамотно басящий «Захребетный» – последним болтуном, лентяем и посмешищем целого поселка. Был еще некто «Пятнадцатый». Говорил он резким, недовольным голосом с причавкиванием, и, казалось, что его вечно отрывают от пожирания чего-то вкусного. Ваське не нравились его авторитетный тон и привычка делать всем замечания. У «Пятнадцатого» была большая семья и он без конца с нею беседовал, то и дело прерываясь и требуя, чтобы ему не мешали и не «забивали» эфир пустяковыми разговорами. Охотился он с сыном. Сын, как и Васька, был на охоте первый раз. У сына этого был такой же голос, как и у отца, звали его тоже Геной, и Васька поначалу их даже путал, потому что Гена-сын тоже причавкивал и харахорился не хуже отца, как бы давая этим понять, что он хоть и молодой, но тоже «Пятнадцатый». Однажды Васька пришел настолько голодным, что первым делом, не дожидаясь, пока оттает ужин, сжевал брикет сухого киселя со снегом. После этого он подкрепился двумя чашками борща, а перед сном умял сковородку риса с глухарятиной. Под утро он проснулся от нестерпимой рези в животе и весь день провалялся на нарах. Оказалось, что младший Гена тоже заболел и, пользуясь затишьем, до обеда проговорил с молодой женой, причем сначала по привычке продолжал изображать «Пятнадцатого», а потом неожиданно пролепетал, что «соскучился ужасно», и Васька, которого и так не покидало ощущение, что он подслушивает, совсем смутился и выключил рацию.
4Бабушка жила в Васькиных мыслях постоянно. Маленькая, легкая как совенок, мягкая от надетых на нее платков и фуфаек, пахнущая прелым тряпьем, рыбьим жиром и картошкой, она и на расстоянии преследовала его своей заботой. Теперь, после долгой разлуки, Васька принимал эту заботу без раздражения и всякий раз улыбался, вспоминая, как навязчиво-неловко охраняла она его от водки или как перед отъездом донимала советами («Бахта станет – по льду не ходи»). Но чаще он думал о ней с благодарностью и тревогой, представляя, как она, кряхтя, колет дрова, как возит с Енисея воду на рыжем кобеле и как темным утром тащится с фонариком в контору узнать «нет ли от Васи чего».
Еще вспоминал он ветреный день их отъезда. Накатывала на обледенелую гальку холодная и наглая волна. Мокрый Николай, ругаясь, отпихивал от берега перегруженную лодку, ветер срывал брезент с груза, а вспотевший Васька бегал за отвязавшейся собакой. И, когда бабушка в десятый раз закричала, ударяя на «я»: «Вася-я-я! Ты рукавицы взял?», он проорал ей в ответ что-то настолько резкое и грубое, что и теперь, вспоминая, краснел от стыда. И чтобы заглушить этот стыд, Васька изо всех сил думал о том, как отдохнет бабушка, когда он вернется, как хорошо они с ней заживут теперь, когда он такой взрослый и сильный, и что в следующий раз он обязательно наколет ей дров на всю зиму.
Под конец охоты уже очень хотелось домой, но когда настало последнее утро, когда прибирали в избушке, выкидывали ошалевшим собакам остатки рыбы, стало вдруг страшно грустно и обидно за это вот-вот опустеющее жилье, за открытую лыжню, по которой он вчера пришел и которая ему больше никогда не понадобится, за прибавляющийся день и солнечную погоду, которая будет теперь стоять впустую. Но в следующую минуту засосало под ложечкой от радостного волнения и пробежал по ногам зуд предстоящей дороги. Недалеко от деревни они в последний раз ночевали в избушке. Ее хозяин, молодой парень, уже отохотился и ушел домой, оставив на гвоздике в цветастом мешочке домашнее печенье – «стряпанное». Васька, как ни сдерживался, сгрыз добрую половину вкусного стряпанного и, отвалясь на нары, уснул мертвым сном.
Под утро посреди какого-то путаного сна его разбудил Николай. Трещала печка, чуть синело окно, верещала рация. Странно бодрый, Николай внимательно посмотрел на Ваську и, как бы решившись на что-то, выдохнув воздух, сказал:
– Вот что, Василий. Сейчас с деревней разговаривал. Бабушка твоя умерла.
Будто лопнул лед под Васькой, и от обдавшего холода он проснулся уже по-настоящему и, оглядевшись, сначала не мог понять, почему так механически-мерно сопит Николай и так равнодушно недвижен еле тлеющий фитиль лампы. Пережитое во сне было настолько сильным, что он, лежа с открытыми глазами, чувствовал, как все продолжает тонуть, цепенея в пробирающем до костей холоде – будто он снова бесконечно маленький и беспомощный, будто не бывало никогда ни морозной радости на сердце, ни тридцати вычесанных соболей в поняге, а есть только извечный, оголенный сном, страх одинокой потерянной души.
Васька затопил печку. Она загудела, и все сдвинулось с мертвой точки, затикали часы на столе, пошевелился Николай, завозились собаки за дверью… Настал день, а страх все не отпускал. Он был с Васькой все время, пока они шли по уже хорошо накатанной дороге, и когда их встретили у зверофермы, и когда они тряслись в нарте на едком дыму выхлопа мимо заваленных снегом домов, мимо собак, лай которых тонул в реве мотора и оставались от него лишь нелепо дергающиеся головы с открывающимися пастями.
А потом показался дом на угоре и на крыльце стояла бабушка в красном платке и фуфайке, с охапкой дров, и, когда гул стих, она все что-то искала сморщенным лицом у него на груди, а он гладил ее по вздрагивающей стеганной спине и говорил несвоими губами: «Ну, будет, будет», а над огромным Енисеем гнал ветер синюю пыль и ехало по зубчатому горизонту сплюснутое сказочное солнце.
Осень
1Ничто так не изматывает, как сборы на охоту. Казалось бы, все уже приготовлено, собрано, увязано, громоздятся в сенях мешки и ящики, и вдруг выясняется, что нет какой-нибудь пробочки от бензобака, и тогда начинается…
– Тук-тук.
– Да-да!
– Здравствуй, Галь.
– Здравствуй, Миш.
– Как дела?
– Помаленьку.
– Мужик где?
– В мастерской.
– Тук-тук.
– Да-да!
– Здоро́во, Петрух.
– Здоро́во!
– Как дела?
– Помаленьку.
– Так-так.
– А что хотел?
– Да вот в тайгу собираюсь – крышечку ищу.
– От бачка?
– От бачка.
– Была у меня крышечка, да Вовке отдал – он в тайгу собирается.
Проходишь по раскисшей от дождей деревне полдня, так и не найдя крышечку, устанешь, как пес, а по дороге к дому встретишь какого-нибудь Генку-пилорамщика с трехлитровой банкой, который скажет тебе, положив беспалую ладонь на плечо:
– Плюнь ты, Миха, на эту крышку. Дерни-ка лучше браженции. Дернешь браженции, и сразу оживет и зашевелится плоский серый Енисей с торопливой самоходкой, солнце поведет золотым лучом из-под тучи, осветив высокий яр с пожелтевшей тайгой. И сама собой придет в голову мысль: «Возьму-ка я лучше бутылочку, да зайду к Толяну».
– Молодец, что зашел, – обрадуется Толян, – а то эти сборы уже в печенках сидят. Обожди – рыбы принесу.
Посидишь с Толяном, закусишь малосольной селедкой, поговоришь о том о сем, о делах, которые, как ни старайся – все на последний день останутся, глядь – давно уж темно и домой пора.
– Не забудь, – скажет Толян, поднимаясь, – фуфайку. В прошлый раз оставил.
– Вот голова дырявая. Столько дней в старой хожу. Спокойной ночи. – Возьмешь фуфайку под мышку и выйдешь в темноту.
Утром, готовясь к продолжению вчерашних поисков, без аппетита попьешь чаю, наденешь сапоги, накинешь пропавшую фуфайку и выйдешь из дому, раздумывая, к кому бы направиться. А рука нащупает в кармане круглый железный предмет – крышечку от бачка.
2В ту пору весь год у меня проходил в заботах – то лес несет – грех не поймать, то надо избушку срубить, то мужикам с сеном помочь, и я всегда с надеждой ждал осени, чтобы добраться до книг. Из города мне прислали их целую кучу, часть я отобрал в тайгу и уложил в большой, с железными уголками ящик. Были там книги по философии, по истории, чужой, взятый под честное слово Бердяев, Марсель Пруст, Хлебников, Леонид Андреев и многое другое, в частности, прекрасно изданный сборник стихов Бухалова с автографом. В том же ящике лежало еще кое-что из ценных, более прозаических вещей: пульки для тозовки, батарейки, приемник. «Что ни говори – собрание своеобразное», – посмеивался я, гадая, вытерпит ли, к примеру, глянцевитый Набоков соседство запасных портянок, и с нетерпением представлял, как в какой-нибудь дождливый день с раскисшим снегом и неприятно теплым ветром, залягу на нары и нащупаю на отяжелевшей полке корешок, как потяну его, и при этом соскользнет и свалится на меня соседняя книга, потом еще одна или две, и как я, не спеша, выберу какую-нибудь одну, небольшую, в крепком переплете и открою первую страницу.
Осень шла хорошо. После дождей, на руку нам поднявших воду в Бахте, установилась ясная погода с задумчивым и студеным северным ветерком, с ночной коркой на лужах и застывшей грязью в ледяных стрелках. Утро отъезда выдалось холодным и таким туманным, что едва видны были камни на берегу. Долго подходила, тарахтя, невидимая самоходка, наконец гуднула и отдала якорь, громыхнув цепью. Прибежал Толян – сказал, когда ждать трактор. Лицо его было озабоченным – в последние дни все не ладилось. То пошел дождь, едва начали смолить лодку, то выключили свет, когда собрались подварить отвалившийся ус к ограждению для мотора. Пришел трактор с санями, мы погрузили на них мешки, ящики, бочки и в последний раз прокатились по дороге. При выезде из очередной ямки, по края заполненной булькающей жижей, чуть не упала бочка с бензином, которую Толян удержал, вскрикнув: «Куда-постой!» И вот на берегу уже чистого от тумана Енисея стоят возле горы груза несколько человек, скулят привязанные собаки, а на воде чуть покачиваются две длинные, остроносые, черные, как головешки, деревянные лодки. Вот и все. А дальше – лиловый дымок за мотором, длинная коса и поворот. А за поворотом минеральная синь бахтинской воды, рябь бегущей гальки под бортом и внезапно остановившийся Толян. Подъезжаешь к нему тихо и осторожно, чтобы не утопить сидящую по самые борта лодку, так тихо, что слышен отдельный стукоток каждого поршня, вопросительно киваешь, а он кричит:
– Да заглуши ты его, – и достает из рюкзака бутылку спирта.
И появляется кружка, пахнущий пекарней белый хлеб, рыжая стерлядка в газете, и тепло из желудка расходится по всему телу, перерастая в ощущение ровной и долгожданной свободы. Вот дрогнули в глазах и окрепли с новой силой и прелестью кастрюлька с инструментами, коренастая фигура напарника, рыжая лиственница на берегу, и уже получили собаки по шершавой стерляжьей шкурке, и далеко по синей воде угоняет ветер кораблик скомканной газеты.
Ехать долго. Заночуешь где-нибудь у Ганькина порога. Утром встанешь, выйдешь из избушки: падает лист с березки, свистит рябчик. С угора как на ладони виден порог в черных точках камней. Река большая, вид у нее пустынный из-за широких паберег, покрытых жухлой заиндевелой травой. С каждым поворотом сильнее уклон. Дно видно почти везде – вода очень прозрачная. В зависимости от глубины она имеет разный цвет. По широким мелким перекатам она течет крученой дымчатой пленкой, под порогами бродит по кругу черным стеклом. Поверхность глубокого плеса даже в пасмурный день зеркальная, но, свесившись за борт, сквозь зыбкий иллюминатор своего отражения увидишь в зеленой мгле плиту с трещиной и яркий обломок березы. Помню, поставили мы сеть в одиннадцатиметровой яме, в тени одного скалистого закутка, и, подъехав проверить, были поражены зрелищем: далеко внизу, чудно искаженные зеленоватой водой, под круглыми, как монеты, берестяными поплавками, висел десяток в гамачном оцепенении замерших щучар. Погода нас продолжала баловать. По утрам на галечные косы вылетали глухари и, неподвижно выгнув шеи, следили за приближающимися лодками. Встречались стаи уже торопящихся на юг уток: крохалей и гоголей. Образовавшийся за семь сезонов охоты Толян называл глухарей петрашевцами, а гоголей – Николаями Васильевичами.
Был хороший момент: Толян, пройдя или, как говорится, «подняв», шиверы (очень бурливое, хоть и глубокое, место с сильным течением), лихо сшиб налетевшего «Николая Васильевича», а я, идя сзади, так же лихо поймал его почти в сливе, едва не зацепив мотором мрачный камень с развевающейся зеленой бородой.
Надо заметить, что катание по порогам перестает быть захватывающим занятием, как только в лодке вместо чьей-нибудь любознательной племянницы оказывается тонна вашего собственного груза, который желательно довести до участка и не вывалить в какой-нибудь верхний слив Косого порога. Подъезжая к порогу, издали видишь: там что-то происходит. Кажется, будто отчаянно машут впереди чем-то белым. Привстав из-за груды мешков, глядишь на приближающуюся ослепительную кашу и сбавляешь обороты. Лодка переваливается через волны, ходят борта, как живые. Вот налегаешь на румпель, сопротивляясь большому водовороту, вот огибаешь грозный хвост слива с высокими стоячими волнами и зависаешь под защитой треугольного камня в голубой газированной воде. Вот врезаешься в струю и медленно ползешь по ней, пока наконец не оказываешься со всех сторон окруженным озверевшей водой, вот мотор громко взревает, хватив воздуха, лодку начинает сносить назад, но ты сбрасываешь газ и, вцепив винт в воду, снова, озираясь, двигаешься вверх, вот морщишься от резкого удара – откидывается мотор, и пока он, огрызаясь, ползет по камню, начинает заваливаться нос, но все обходится и ты, наддав газу, успеваешь выровнять лодку, а впереди уже видны две горбатые глыбы, клин упругой воды между ними и масляная гладь плеса. По плесу во всю ширь медленно плывет рыжая лиственничная хвоя. Плавно спускаются к каменистым берегам пестрые осенние склоны и вот место, где когда-то передо мной предстала картина, которая и в старости будет волновать меня до озноба: в синеватом воздухе мыс с нависшей елью и далекая нежно-желтая сопка. Уже нос лодки поравнялся с верхними глыбами, как вдруг из общего рева выпал звук работающего мотора и стало тихо, хоть порог и грохотал во всю мощь. Лихорадочно дергая шнур, я успел заметить и запомнить, как лодка, теряя скорость, на долю мгновения застыла на месте и как дохнуло от этой заминки потусторонним холодком. В тот же миг меня понесло обратно, кажется, я успел только поднять мотор, и развернувшуюся лодку со всего маху шарахнуло середкой о камень. Помню, как она валится набок, как летят за борт веером инструменты вместе с кастрюлькой, как выпрыгивает бочка с бензином, бачок, мешки, и вот уже лодка, колыхаясь, сидит на камне с остатками груза и полная воды, а я вишу снаружи на борту и одной рукой отчерпываю воду уцелевшим ведром. Помню, как, упершись ногами в камень, помогаю ей сняться, как запрыгиваю, как все отчерпываю ее этим новым и блестящим ведром и как выносит меня из порога навстречу Толяну. Толян одной рукой держит румпель, другой пытается остановить пляшущую у его борта бочку а сам кричит:
– Все поймал, только сундук утонул!
Мне повезло. О более высокий камень лодку сломало бы пополам, а так она просто скинула лишнее и с моей помощью сошла на воду. Тогда я об этом не думал. Хотя уцелело все – и оружие, и пила, и лыжи, и остальные ящики, а из хлеба получились отличные сухари, сладкие от пропитавшего их сахара, потеря сундука с книгами была для меня настоящим горем. «Лучше бы какой-нибудь рис утонул», – думал я и отчетливо видел не занятый обработкой пушнины вечер после неудачной охоты, когда все дела переделаны, сторожки для кулемок заготовлены на несколько лет вперед, все надоело и хочется только одного – живого человеческого слова.
Кроме потери книг удручал еще и сам позор приключившегося: вроде бы столько лет хожу по Бахте – и вдруг такая промашка. И хотя с виду я был не виноват (сам заглох, дармоед железный), совесть моя была нечиста: слышал же я пятьюдесятью километрами ниже короткий перебой с горючим, но подкачал грушей и успокоился, вместо того чтобы потратить пять минут и вытащить из насоса плитку рыжей краски от бачка, доставившую столько хлопот ни в чем не повинному Толяну и отравившую мне всю осень. Пережив такое начало охоты, я, в ожидании следующих бед, по семь раз все отмерял, без конца стучал по деревянному и сыпал соль через левое плечо.
Толян дал мне приемник, батареек и еще кое-что взамен утонувшего вместе с книгами. Предложил даже взять журналов, но я отказался: не судьба – так не судьба. Мы расстались на берегу у его последней избушки хмурым утром, когда повеяло несильным, но каким-то сплошным и нешуточным холодом. Пожелали друг другу удачи и пожали руки. Многое вкладывается в такое рукопожатие.
Пока я отпихивался, заводил мотор, Толян стоял на берегу, а когда заработал винт, махнул рукой и пошел в гору. Шивера в устье Тынепа выглядела как серебристая грохочущая дорога с синим хребтом над колючим хвойным берегом. Я поднял ее без приключений.
Весь путь томили меня недобрые предчувствия: вдруг медведь разорил лабаз, избушка сгорела или экспедишник топор уволок. Добрался под вечер, ткнулся в красный плитняк берега, привязал лодку за камень и поднялся к избушке. Собаки вели себя спокойно. Дверь была открыта и подперта лопатой, как я и оставил ее весной. Топор лежал под крышей рядом с тазом. Я зашел внутрь. Все было на месте: лампа, связка стекол под потолком, чайник с трубкой бересты на ручке, ложка, блесна на гвоздике.
Я заглянул на полку: коробка с лекарствами, пульки в пачках. Рядом с пульками лежал Пушкин: стихи, сказки, пьесы и «Повести Белкина», все в одном старом, без обложки, томе – как я забыл о нем?!
Наутро я взял чайник и пошел по бруснику. Накрапывал дождь. Из-под тучи тянуло холодком. Я брел по-над Тынепом краем леса. Вниз к воде уходил крутой яр из красного сыпучего камня. В ясную погоду отсюда видна гора с косой вершиной. Я собирал в закопченный чайник темную бруснику и вспоминал, как впервые сюда приехал и как обживал эту тайгу, как строил первую избушку и какое древнее и сильное чувство испытывал, глядя на обрастающий стенами квадрат сырого мха.
Кобель поднял с брусничника глухаря, усевшегося на лиственницу. Я добыл его, повесил на березку, вставив головой в развилку, а когда возвращался обратно, все его плотное пепельное перо было в серебряных каплях.
В далеком детстве мы гостили с бабушкой в Кинешме у тетки и я хорошо помню, как ранним утром по набережной над Волгой нес мужик на руках, словно спящего ребенка, огромного убитого глухаря… Прадед жил в Шуе и держал псовую охоту, бабушка много рассказывала о его собаках, о кожаных бродовых сапогах, о тетеревах с красными от ягоды клювами и заволжских брусничниках. Из всего этого еще давным-давно и помимо моей воли возникли и остались со мною на всю жизнь окутанный дремучей тайной природы образ России и восхищение людьми, прикоснувшимися к этой тайне. Помню, еще в первый год охоты не покидало меня ощущение, что я чему-то служу, хоть сам и не знаю чему. Шагая по Бахте на лыжах, обвешанный снаряжением, с понягой, с топориком за поясом, с лопаткой в руке, я представлял себя рыцарем. В мороз на бровях, усах и бороде нарастал куржак и закрывал лицо, как забрало. Когда я спускался из избушки по воду, длинная пешня с плоским лезвием представлялась мне копьем, а заросшая льдом прорубь – веком огромного богатыря, которого я, подобно Руслану, будил уколами копья, до тех пор, пока не открывалось темное подрагивающее око, живой хрусталик которого я уносил с кусочком льда в обмерзшем ведре… Возвращаясь, я гадал, что бы подумал Пушкин, глядя из-за деревьев на мутный просвет Тынепа, на блестящую от дождя крышу избушки, на чайник брусники в моей руке. Мне хотелось сказать ему, чтобы он не волновался, что я буду как могу служить России, что если и не придумаю о ней ничего нового, то хотя бы постараюсь защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла.
Дождь стихал. «Разъяснивает, – говорил я сам с собой, таская веревочной петлей дрова из поленницы, – завтра утренник будет, поеду на Майгушашу, не забыть бы капканы – в ручье висят». Запалив костер и присев возле него на ящик, я позвал Алтуса. Он вильнул хвостом, подбежал рысцой и бухнулся рядом. Я положил ладонь ему на голову:
– Ну что, Серый, отпустишь меня когда-нибудь о Енисее книжку написать?
* * *А может быть, природа – это самый простой язык, на котором небо разговаривает с людьми? Может быть, нам не хватает душевной щедрости на любовь к ней и потому она часто видится нам равнодушной или враждебной? Она кажется нам наивной и бессмысленной, потому что, быть может, мы сами ищем смысла вовсе не там, где надо: все стараемся чем-то от кого-то отличиться и все сердимся, что никак не выходит. Может, потому и презираем ее: мол, как можно так повторяться из года в год, что сами стыдимся в себе вечного и гонимся за преходящим? Может, потому пугаемся, глядя, как она столько раз умирает, что к своей смерти относимся неправильно? И обижаемся на нее зря – тогда, когда забываем о главном: что она любит труд, терпенье и не переносит жадности с верхоглядством. Что она, как дикая яблонька из сказки «Гуси-лебеди», говорит торопливому человеку: