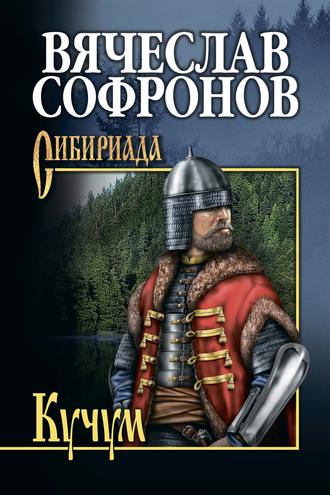
Полная версия
Кучум
Кучум еще долго говорил с ним, а потом резко выбросил руку вперед и воткнул в толстый ствол кинжал. Маймыч вздрогнул, неожиданно вскочил, сделав несколько неуверенных шагов, и побежал, поминутно оглядываясь.
– Помни, что ты в моей власти, – крикнул вслед ему Кучум.
Поздно вечером с одного из постов раздался окрик дозорного, и вскоре Кучуму доложили, что к их лагерю приплыл на лодке тот самый пленник, с которым хан долго беседовал. Пройдя вслед за воином, Кучум еще издали различил маленькую фигурку карагайца, покорно стоящего у берега, сложив руки на груди.
– Это ты, Маймыч? – спросил для верности.
– Да, мой хан. Я все выполнил, как было приказано, – и он указал на темнеющую неподалеку лодку.
– И тебе удалось справиться одному? – в голосе Кучума послышалось неимоверное удивление. – Как ты смог?
– Хан своим заклинанием дал мне сил вдесятеро больше, нежели прежде.
– Понятно, понятно, – свел брови на переносье Кучум, – веди, показывай.
Они прошли к лодке, на дне которой лежало тело мужчины в боевых доспехах. Кучум ногой пошевелил его, и по всему было видно, что тот мертв, а рана, зияющая на горле, лишь подтверждала это.
– Кто-нибудь видел, как ты убил его?
– Нет, – спокойно ответил Маймыч, – я позвал его к своей лодке, желая сообщить что-то важное, а когда он наклонился, то ударил в горло кинжалом, – и он протянул Кучуму его собственный кинжал, покрытый коркой крови. Хан принял его, отер о рукав и небрежно опустил в ножны. – А остальное было нетрудно сделать…
– Хорошо, хорошо, – хан брезгливо поморщился, – можешь не пересказывать. Ты свободен, плыви обратно.
– А как же награда? – тонким голоском спросил Маймыч.
– Я даровал тебе жизнь, – коротко ответил Кучум.
Когда лодка карагайца отплыла довольно далеко от берега, хан продолжал стоять на берегу, напряженно глядя в едва темнеющий ее силуэт. Потом вынул кинжал, несколько раз прочертил в воздухе круг и с силой воткнул его в ствол ближайшего дерева. Тут же лодка остановилась, замерла, над ней показались очертания человеческой фигуры, а потом послышался вскрик и отдаленный всплеск. Вскоре все смолкло, и лишь невысокий борт долбленки спокойно покачивался на водной глади.
– Так-то оно лучше, – негромко обронил Кучум и, повернувшись, встретился взглядом с одним из охранников, что оцепенев наблюдал за всем происходящим.
– Тс-с-с! – хан приложил указательный палец к губам. – А то знаешь, что с тобой может случиться? Вот и ладно. Лучше найди веревку покрепче и за ноги привяжи этого мертвеца к верхней ветке вон той березы. Справишься?
Охранник молча закивал головой и кинулся к убитому, которого оставил на берегу Маймыч.
Вернувшись к своему костру, где сидели Кутай-бек и сотник Сабир, Кучум как бы между прочим сообщил:
– Завтра возвращаемся обратно в Кашлык. С предводителем карагайцев, которого прозвали невидимкой, Кузге-беком, покончено.
– Как! – в один голос вскрикнули Кутай-бек и Сабир.
– Да очень просто. Он висит вниз головой на ветке березы. Завтра сами можете убедиться в этом. Нет-нет, сидите, – остановил их жестом, – не стоит ради презренного изменника прерывать нашу беседу. Впрочем, я мог бы расправиться с ним, и не выходя из Кашлыка, но решил чуть поразмяться. – Кучум говорил высокомерно, оттопырив нижнюю губу, как бы нехотя произнося слова, а сотник и Кутай-бек благоговейно взирали на своего хана, как на некое высшее существо. Недаром о нем ходили всякие слухи, мол, обращается он то в орла, то в волка, может разить врага, лишь взглянув на него издали. Сейчас они сами убедились в правдивости тех слухов. Что ж, тем лучше. Трудный поход закончен.
Весть, что Кузге-бек убит, мигом разнеслась по лагерю, но ни один из нукеров в сумерках не решился идти к дереву, где висел бунтовщик, все ждали утра. А утром все с удивлением задирали головы вверх, где на толстенной ветке висел привязанный за рукоять крепкой веревкой изогнутый у основания кинжал хана Кучума. Долго искали охранника, которому поручено было втащить на дерево мертвого Кузге-бека, но и его не удалось отыскать. Не было видно и карагайцев, ни одна лодка не разрезала водной глади, да и сама вода заметно пошла на убыль.
– Отправляемся обратно в Кашлык, – хмуро приказал Кучум, для которого исчезновение бека, прозванного невидимкой, было такой же загадкой, как и для остальных нукеров.
«Может быть, карагайцы сняли его с дерева и увезли с собой, – успокаивал он себя всю обратную дорогу. – Только как не видели их караульные, что менялись дважды за ночь. Странно все это…»
Все селения, лежащие на их пути, казались вымершими. Люди бежали от ханского отряда в глубь леса, прятались на болотах. С одной стороны, это злило Кучума, а с другой… подданные должны бояться своего правителя. Так было и будет всегда, пока существует этот мир.
А земля вокруг них просыпалась, оживала, наливалась силой, и грешно было не улыбнуться ее первозданной девичьей наготе, сбросившей пелену зимних одежд и пока не успевшей надеть летнее одеяние. Ее погрузневшее, разомлевшее под весенним солнцем тело роженицы устало дышало всеми порами кожи-земли, вздымалось буграми холмов, провалами оврагов.
Весенние воды ушли, освободив место для буйства трав и цветов, что украсят землю, оденут ее и возвестят миру о появлении на свет еще одного года жизни, несущего с собой радость и веселье.
Цепочка медленно едущих над речным обрывом всадников напоминала издали стаю черных птиц, парящих у самой земли. Впереди ехал, опустив плечи, человек с седой бородой, тягостно думающий о чем-то своем и не замечающий пьянящих красок весны и прихода на Сибирскую землю нового и молодого года, обещающего множество перемен.
В Кашлыке их ждало известие, что взбунтовались вогульцы, живущие в верхнем течении реки Тавды. В другой бы раз Кучум немедленно направил несколько сотен на их усмирение, но сейчас… сейчас у него просто не было сил для нового похода. Приказав начальнику не пускать к нему кого бы то ни было до следующего утра, он лег, укрывшись с головой, чтоб не слышать доносящихся снаружи шорохов, вскриков гнездившихся неподалеку птиц, радостных воплей детей, радующихся весеннему солнышку и теплу.
Сон долго не шел, но усталость взяла свое, и вскоре он уже погрузился в тяжкое забытье, как вдруг кто-то тронул его за плечо и назвал по имени.
– Кто здесь? – встрепенулся он. – Я же просил никого не пускать…
– Это я, мой хан, – услышал он знакомый голос, но не сразу смог припомнить, кому он принадлежит. – Ты звал меня, и я пришел…
То, как вошедший говорил, растягивая слова на окончании, что обычно свойственно всем сотникам и башлыкам, привыкшим выкрикивать команды, пересиливая ветер и пургу, а также знакомая шепелявость, наконец, позволило Кучуму узнать разбудившего его.
– Алтанай?! Ты?!
– Я, мой хан. Ты еще не забыл меня?
– Но ведь ты умер…
– Да, умер.
– Как ты можешь говорить со мной? Может быть, и я умер? Ответь…
– А какая разница между живым и мертвым? Мы находимся в одном мире. Сейчас ты думаешь, что спишь, а на самом деле твоя душа беседует со мной. Иной живой больше на мертвого походит. Так-то…
– Почему ты раньше не приходил? Почему именно сейчас?
– Раньше, хан, ты не звал меня. Занят был. Сейчас тебе очень тяжело, и уже который день зовешь своего старого башлыка.
– Устал я, Алтанай. Ох, как устал. Жить не хочется больше…
– То не от нас с тобой зависит. Все в руках Аллаха. Нельзя смерть торопить. Видно, не пришел пока твой час.
– А ты можешь сказать, когда он придет? Скажи, дружище, мне очень нужно знать, сколько отмерено мне.
– По делам нашим отмерено: по благим и дурным. Ты все сделал, что хотел?
– Нет пока…
– Вот видишь. Свершишь одно, а там открывается другое. Сам себе меру и кладешь. Много, много пока дел у тебя, хан. Пострадай еще.
– И тебе не хочется обратно, Алтанай? Помог бы мне. Видишь, как маюсь один без верной руки. Тяжко…
– Нет, не хочется. Я уж не тот, что был раньше. Все мне видится иначе. Отвык от суеты вашего мира.
– Значит, не поможешь? И ты против меня. Эх, Алтанай, Алтанай…
– Зачем хан рвет себе душу? Пустое это все. Живи как живешь.
– Подожди, не уходи, – Кучум протянул руку, чтоб коснуться плеча старого башлыка, но рука не слушалась и осталась неподвижной. – Ответь тогда, где тебя похоронили.
– Это могу. Садись на своего вороного и поезжай на полуночь. Он сам привезет тебя к моей могиле.
– И еще… Тебя убил хан Едигир?
– Нет. Просто пришло мое время. Аллах призвал меня.
– А Едигир? Он живой или тоже умер? Ответь. Для меня очень важно знать об этом, умоляю…
– Скоро узнаешь. Все в этом мире становится явным, – и, не договорив, старый башлык вдруг исчез.
Кучум сидел на сбитой лежанке и безумно таращил глаза, поглядывая по углам шатра. Тихо вошла Анна, присела рядом, прильнула к груди.
– Проснулся уже?
– Сам не пойму. Спал или нет.
– А я вот что нашла возле шатра, – и она подала ему медную бляху, которую он много раз видел на кольчуге старого башлыка.
Блаженство горестных
Василий Ермак сидел на берегу небольшой речушки и, неторопливо подбирая рукой камешки, бездумно кидал их в воду, наблюдая, как тихая гладь ее разбегается кругами, похожими на глаз живого существа, пытающегося высмотреть нарушителя спокойствия, но так и не разглядев его, снова тихо засыпающего. Наконец Ермаку надоело это пустое занятие, он повел широкими плечами, поднялся на ноги, оглядел степную даль, вслушиваясь в полуденную тишину, нарушаемую лишь стрекотанием кузнечиков да побрякиванием удил пасшейся лошади.
Второй день поджидал он посланных в разведку к ногайцам своих казаков, что должны были отыскать в степи конские табуны мурзы Урмагомета, давнего казачьего недруга. Прошлой весной он со своими нукерами едва не накрыл отряд Ермака, когда они возвращались из Крыма, с рынков Бахчисарая. Пьяный казак – плохой казак. А они пьянствовали всю обратную дорогу, беспечно полагаясь на близость казачьих станиц. Вот тут-то и наскочил на них Урмагомет с сотней нукеров. А казаков всего-то два десятка. Слава Богу, что пищали держали заряженными, отбились и, рассыпавшись, ушли: кто вдоль берега, кто по дну балки, кто скрылся в ближайшем леске. В станицу добралась лишь половина от всего отряда. Голосили бабы-казачки, хмурились старики. Ермаку, а он был старшим в том походе, никто и слова не сказал. Но он сам все знал – виноват. Не уберег казачков. С него и спрос. Может, оттого, что был легко ранен стрелой в бедро, в открытую не высказывались, не вызвали на круг для суда, но про себя он дал слово посчитаться с мурзой, чего бы то ни стоило.
Долго, всю зиму, вынашивал план мести, как это делал обычно, без спешки, ни с кем не делясь задуманным, а пару дней назад пригласил к себе в курень Гришку Ясыря, Яшку Михайлова, Гаврюху Ильина (все они были с ним в тот раз и тоже ходили зиму как оплеванные, чуя вину) и изложил план мести.
– Нынче гнуса много, и ногайцы погонят свои табуны от становий, в степь подале, где ветерок прохладный отгоняет мошкару. Пастухов на сотню голов у них не больше трех человек бывает. Если табун большой, то не больше двух десятков.
– Как и нас в тот раз было, – вставил слово Гавриил Ильин.
– Да, как и нас, – Ермак внимательно глянул на него, пытаясь угадать, согласен ли Гаврюха идти в набег. Низовые атаманы на кругу толковали, что с ногаями надо дружбу держать, мол, царь Иван Васильевич не велел до поры до времени ссориться. Поэтому их набег шел вразрез с планами казацких старшин. Сами же они сидят по куреням, живут от дележа общей добычи, приносимой казаками из набегов. Им нет нужды рисковать жизнью. К тому же и царское жалование как-никак, а им попадает в первые руки. Ермак, не желая ссоры со старшинами, решил собрать в набег лишь близких ему казаков, которым тоже невтерпеж сидеть по куреням без дела, ждать общего похода на казылбашев или турок, когда собираются и стар и мал, идут всем войском, а в результате – больше шума, чем дела.
– Не пожалуют нас старшины за это, – словно угадал его мысли самый рассудительный из всех Яков Михайлов, – ох, не пожалуют.
– Чхать нам на них! – вскочил полукровка Гришка Ясырь. – Пущай свои толстые задницы греют на солнышке старшины наши. Им чего? На них не каплет…
– А на тебя давно капать начало? Камышом бы прикрылся, – ответил, топорща белесые усы, Яков Михайлов. – Сам в прошлый раз первый наутек пустился. Забыл, что ль?
– Это я первым? – Гришка сделал вид, что ищет кинжал на широком поясе. – Я первым бежал? А ты меня в балке так шибко обошел, что я сколь ни гнал за тобой, а догнать не сумел.
– Ладно, все хороши, – Ермак нажал легонько на худое плечо Ясыря, усаживая того на место, – дело будем говорить или квитаться начнем?
– Давай о деле, – подал голос молчаливый Гаврила Ильин, самый крупный и неповоротливый из всех, – а то их, брехунов, не переслушаешь. Идите вон на улочку да там и цапайтесь.
– Так вот о деле, – Ермак чуть выждал, собираясь с мыслями, и продолжал: – Коль на большой табун наскочим, голов с полтыщи, то пастухов там не больше, чем два десятка будет. Снимем их: и мурзе отомстим, и кони наши.
– И куда ж мы их денем? – похоже, Яков Михайлов не хотел идти в набег или просто кочевряжился, набивал себе цену. – Съедим? Старшинам подарим? Может, и скажут они за то спасибо, а может, и пожурят, что без спроса ихнего в набег на ногаев пошли…
– Добрых под себя оставим, а остальных на продажу угоним.
– Это куда ж? В Бахчисарай, что ли? Там они нас, ногайцы, мигом накроют, за ушко да на солнышко сушиться подвесят.
– Дай договорить-то, – поморщился Гаврила Ильин, – все норовишь поперек батьки в пекло проскочить.
– Тоже мне батька нашелся, – скривился Яков, но, встретившись с налившимся гневом взглядом Ермака, осекся, – прости, Тимофеевич. Не про тебя я… Про этого увальня, – ткнул рукой в сторону Ильина.
– Коней к кабардинцам отгоним. Есть у меня там дружки кой-какие, – закончил Ермак и замолчал, ожидая, что скажут остальные.
– Я согласен, – беспечно махнул рукой Гришка Ясырь.
– Выдюжим ли втроем? – покачал головой Ильин.
– Ясно дело, что втроем и соваться неча. Тут дюжина добрых казаков нужна. Точно, – высказался Яков Михайлов. – И чтоб не кинулись, как зайцы, в разные стороны в случае чего.
– Вот каждый из вас еще троих и приведет. Таких, за кого головой ручаетесь, – сжал жесткую пятерню в кулак Ермак, – как за себя.
– Это можно, – протянул Гаврила Ильин, – есть такие.
– Вот и добре. Завтра под вечер и выходим. – Ермак встал.
– А чего другим говорить, коль спросят, куды собрались? – не успокаивался ершистый Яков Михайлов.
– На кудыкину гору…
– Скажешь, на богомолье попремся грехи замаливать.
– Ага, в монастырь подадимся. Кафтан на рясу менять, шапку – на клобук. Это точно, – засмеялся вместе с другими Михайлов. – Эх, давненько не ходил я в доброе дело. Руки чешутся.
– Вот и почешешь скоро, – подтолкнул его в плечо Ермак, выпроваживая, чтоб поскорее остаться одному и обдумать до конца план набега, после того как заручился поддержкой друзей.
На другой день, под вечер, собрались у переправы за станицей, подальше от любопытных глаз, и, оглядев друг друга, узнавая старых знакомцев, перемигнулись, посмеялись над Гришкой Ясырем, у которого, похоже, не ко времени загуляла кобыла, и тихой рысью тронулись вдоль реки.
…Сейчас Ермак поджидал их с известиями о ногайских табунах, разослав отряды по четыре человека в каждом в разные стороны. Сам не поехал, не желая впустую маять коня, метаться по степи. Все одно все съедутся к нему, сообщат об увиденном.
Первым вернулся Яков Михайлов со своими людьми и безнадежно махнул рукой, спрыгивая с коня и тяжело отдуваясь.
– Никого, кроме зайцев да байбаков, по всей степи не встретили. Видать, в другую сторону откочевали.
– Ладно, отдыхайте покуда, – щелкнул плетью по голенищу Ермак, – авось другие наткнутся.
Когда солнце упало бочком на край земли, удлинив тени, давая степи возможность остыть, умерив свой зной до следующего дня, показался отряд Гришки Ясыря.
– На ногаев наскочили! – еще издали закричал он возбужденно.
– И чего? – все вскочили на ноги, потянулись к оружию.
– Да их всего три кибитки стоит. Мы и подъезжать не стали.
– Фу-у-у, – выдохнул Ермак, – правильно сделал, а то бы все дело испортил. Они вас не заметили?
– А кто их знает, – Гришка бросился к баклажке со свежей водой, – они глазастые, могли и разглядеть.
– Там узнаем, – Ермак направился к своему коню.
– Куда ты, Тимофеевич?
– Поеду навстречу Гаврюхе. Ежели и он ни с чем вернется, то сам искать стану. Ждите тут.
Казаки удивленно переглянулись, но перечить не стали. Пусть атаман решает сам, его затея.
Немного отъехав от лагеря, он остановился и стал чутко вслушиваться, пытаясь угадать, откуда должен появиться последний отряд разведчиков. Справа от него виднелись едва заметные издали курганы. К ним-то он и направился, прикинув, что, забравшись наверх, увидит возвращающихся казаков даже раньше, чем они его. Так и вышло. Едва взобрался на курган, как различил чуть в стороне скачущих на рысях четверых всадников, державшихся парами. Пустил коня наперерез им, ловя лицом приятно освежающий ветерок, слившись телом со стелющимся под ним скакуном, направляя бег его одними коленями, отпустив повод, похлопывая правой рукой того по шее.
Казаки, заметив еще издали верхового, приостановились, подняли ружья, но, узнав атамана, радостно заулыбались, Гаврила Ильин пустил коня навстречу к нему.
– Нашли! – закричал издали. – Огромный табун будет. Точно с полтыщи голов! И одного ногая в полон захватили, с собой везем.
Ермак и сам увидел притороченного к седлу маленького плотного ногайца в грязном сером халате. Ему неловко было висеть вниз головой – и он силился поднять ее, непрерывно задирал вверх, но это плохо удавалось, и он что-то бессвязно бормотал толстыми губами, верно, моля отпустить его.
– Зачем он нам? – неодобрительно спросил Ермак Ильина.
– Да наскочил на нас сам. Убивать – жалко. Без оружия был. Отпустить – значит, своих наведет. Решили до тебя привезть, а ты уж решай, как знаешь.
– Решай! – зло выдохнул Ермак. – У самого башка не варит?! – Ильин смутился, хлюпнул носом и, несмотря на свои солидные размеры, сделался рядом с атаманом маленьким и невзрачным. Подъехали и остальные казаки. Гаврила подбирал их словно себе под стать: все плечистые, рослые, с пудовыми кулачищами. Такие и полсотню легко одолеют.
– Чего делать с ногайцем? – спросил тот, у которого он был привязан к седлу. – Бормочет все чего-то по-своему. Может, молится?
– Не молится, а детей вспоминает. Шестеро их у него. Говорит, мол, помрут одни, – ответил Ермак, вслушавшись в бормотанье пленного. – Развяжи, – приказал.
Когда пленник очутился на земле и его освободили от пут, то он первым делом поднес руки к лицу и закачал головой из стороны в сторону. Его налитое кровью лицо от долгого пребывания головой вниз покрылось пунцовыми пятнами, и того же цвета стали белки глаз. Он долго качал бритой головой, несвязно бормоча что-то, наконец, разобрав в Ермаке старшего, заговорил, обращаясь к нему:
– Казак якши! Моя казак не трогай! Казак мой не трогай! Якши, бачка?
– Якши, якши, – сдержанно отозвался Ермак, – скажи лучше, сколько пастухов у табуна, – и повторил фразу на ногайском наречии.
– Ун, ун, – выкинул тот два раза растопыренные пальцы рук, – егерме, – и широко заулыбался. Но в уголках его глаз светилась тревога, улыбались лишь складки округлого лица и толстые губы. Глаза смотрели настороженно и недоверчиво. Он хорошо понимал, зачем казаки выспрашивают о пастухах при конском табуне, но не отвечать не мог, опасаясь за свою жизнь. И непонятно, правду ли он говорил. Может быть, пастухов там окажется не двадцать, а полсотни.
– Где ваш улус? – спросил Ермак.
– Шибко далеко, казак, не доехать. Там, – и махнул рукой на восход солнца.
– Так чего делать с ним? Секир башка, – полушепотом спросил Ильин, оттопырив нижнюю губу.
– Отпусти. Он нам зла не сделает. Какой из него воин. Стыдно о такого и руки марать, – Ермак, не отводя глаз, смотрел на ногайца. Что-то неприятное, холодное шевельнулось внутри. – Иди, – приказал он и, повернувшись к казакам, пояснил, – пока до своих доберется, мы уже у них побывать успеем. Главное, чтоб они его не хватились, розыск не начали. Надо выступать прямо сейчас.
Ногаец бросился бежать, время от времени оглядываясь назад и все еще не веря, что его отпустили. А Ермак отправил двух казаков к берегу кликнуть остальных.
– Найдешь дорогу в темноте? – спросил Ильина.
– Должен, однако. Под утро, глядишь, и доберемся, – уныло ответил он, – только кони пристали. Весь день без передыху скакали.
– Чуть отъедем и отдохнем, своих дождемся. Негоже на том месте стоять, где ногайца отпустили. Встретит своих, наведет на нас – тогда держись.
Остановились у небольшого озерка, заросшего высоким камышом. Стреножили коней, улеглись прямо на землю, подложив под головы снятые седла. Вслушивались, как где-то на другой стороне озерка пикал кулик, вскрякивали изредка утки, хлопая крыльями. Верно, птицы, встревоженные приближением людей, отлетели на ту сторону и теперь никак не могли успокоиться.
– Вы вздремните малость, а я наших дождусь, – тихо проговорил Ермак, – как светать начнет, разбужу и выступим.
Он дождался подхода остальных казаков, которые безошибочно нашли их ночевку, перекинулись парой фраз, улеглись. Те, намаявшись за день, дружно захрапели, а он лежал с открытыми глазами, жевал крепкими зубами травинку, прикидывал, как завтра подкрадутся к табуну, как будут гнать его, уходя от погони.
Он не первый раз шел в набег. Но раньше ходил рядовым казаком и лишь теперь решился сбить свою ватагу, стать атаманом. Первый раз его взял с собой Богдан Барбоша, язвительный на язык и отчаянного нрава человек. Ермаку не понравились с первого раза его маленькие бегающие глазки, шепелявая речь, раздрызганная походка полупьяного человека.
– Эй, ты, чернявенький, – обратился он к Ермаку, когда тот только первое лето вместе с Евдокией и ее матерью Аленой прибыл на Дон, выстроил кое-как свой дом-курень и присматривался к местным казакам, не зная, чем занять себя. – Двух баб с собой возишь, да? Как султан, однако. Может, подаришь одну? Молоденькую. Ту, вторую, себе оставь. Старая, она лучше греет. Соглашайся, пока добром прошу.
Кровь ударила Ермаку в голову, но он справился с собой и обвел взглядом толпу бездельничающих на майдане казаков. Их было человек двадцать, и все были не прочь подразнить новичка, развлечься его растерянностью.
– А ты ее спроси, – неожиданно для самого себя нашелся Ермак.
– Да ну! – Барбоша прошелся по кругу, вихляя толстым задом в широких синего сукна шароварах. – Выходит, ты ей не хозяин. У нас, казаков, так не принято. Мужик решает, а баба – она баба и есть. Что корова: куда приведут, там и доится.
Казаки дружно заржали, пытаясь подбить Ермака на драку. Он не боялся тщедушного Барбошу и даже хотел уже подойти к нему, схватить поперек и бросить на землю. Но потом, чуть помедлив, достал кинжал, повел глазами и, увидев врытый посреди майдана в землю столб, точно через плечо метнул кинжал. Тот мягко вошел в древесину, подрагивая рукоятью.
– Попади, – кивнул Барбоше.
Тот понял, что ему предлагают состязание, и, так же вихляясь, подошел к Ермаку, вынул свой длинный с перламутровой рукоятью кинжал, прищурился и с силой метнул его. Он прошел в ладони от столба и, кувыркнувшись, зарылся в пыль. Казаки возбужденно закричали, заулюлюкали.
– Ай, Барбоша, оскандалился перед чужачком! Как он тебя!
– Бывает, – смущенно ответил тот, – а пущай он еще раз попробует. Ну-ка, Ефим, дай ему свой ножичек.
Рыжеусый казак подал Ермаку кинжал. Тот не раздумывая принял его, прикинул вес, взявшись за конец лезвия и отведя руку, метнул. Кинжал точнехонько впился рядом с первым. Казаки радостно загомонили, подбадривая Ермака. «А ну, мой метни!», «Покажи и моим», «Любо», – послышались крики, и к нему потянулись руки с кинжалами самой разной формы. И он, не глядя, брал их, прикидывая на вес, отводил руку, щурил глаз, видя лишь столб, и метал, метал… Остановился, вытер испарину со лба, лишь когда весь столб был утыкан кинжалами, а казаки похлопывали его по плечу, приговаривая: «Наш будет», «Такой не подведет», «Айда, выпьем по чарочке за дружбу казачью».
Подошел и Богдан Барбоша, примирительно протянул руку, чего-то там шепелявил, Ермак и не разобрал. Горячая волна опять прилила к голове, и он уже не мог различить отдельных голосов. Потом все же понял, что Барбоша зовет его с собой в набег на ногаев красть коней. Согласился. Отбили табун в две сотни голов, но ногайцы нагнали их далеко в степи. Около сотни всадников, а казаков всего два десятка. Едва ушли. С тех пор они не то что подружились с Богданом Барбошой, но и не чурались друг друга. Тот несколько раз напрашивался в гости к Ермаку, хвалил угощения, что выставляли Алена и Евдокия. Ермак видел, какими глазами он глядел на Дусю, но сдерживался, молчал.











