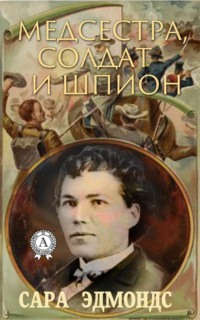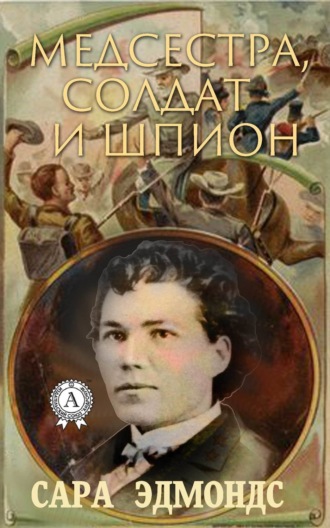
Полная версия
Медсестра, солдат и шпион
Все ближайшие усадьбы были осмотрены и полностью очищены – солдаты забрали все имевшееся в них молоко, масло, яйца, домашнюю птицу, etc., но тут выяснилось, что всего этого оказалось крайне недостаточно, чтобы удовлетворить аппетит такого множества людей. Мне показалось, что со стороны поля, где мирно пасся скот, я слышала нечто похожее на выстрелы, а потом, вскоре после того, как они прекратились, из разных уголков лагеря до нас донесся запах свежего стейка. Но я хотела бы заметить, что все эти так называемые «рейды» – по курятникам и другим местам, – были совершены вопреки приказу командующего генерала, поскольку еще днем я видела, как у обочины дороги, за стрельбу по курам было арестовано несколько человек.
Я была просто поражена, услышав ответ молодого и подающего большие надежды темнокожего повара, когда его спросили о происхождении поданных им к нашему ужину жареных цыплятах и говяжьем бифштексе. Очень строгим тоном полковник Р. спросил его:
– Джек, откуда вы взяли этот говяжий стейк и этих цыплят?
– Масса, я нес их от самого Вашингтона и теперь подумал о том, что их надо бы приготовить, чтобы они не испортились.
А потом, широко ухмыльнувшись, он добавил:
– Я не вор, нет, не вор я.
– Ладно, ступай, Джек, – ответил ему полковник, а потом рассказал нам о том, как лично сам, случайно проезжая мимо, своими глазами видел выбегавшего из дома Джека и во весь дух мчавшуюся за ним женщину, но Джек ни разу не оглянулся, напротив лишь бежал – настолько быстро, насколько позволяли ему его ноги, – вскоре его и след простыл.
– Я подумал, что этот юный негодяй натворил чего-нибудь, – продолжал он, – а потому я подъехал к женщине и спросил ее, что случилось, и таким образом узнал, что он похитил всех ее цыплят. Я поинтересовался у женщины их ценой – она задумалась на некоторое время, и назвала мне ее – около двух долларов. Мне кажется, что она провернула очень удачную сделку, поскольку уже после того, как я заплатил ей, она сообщила мне, что у нее было всего лишь два цыпленка.
Ужин закончился, часовые назначены и расставлены по своим постам, а потом лагерь уснул.
Рано утром прозвучал сигнал к подъему, лагерь пришел в движение. После непродолжительного завтрака тем, что хранилось в наших сумках, марш был возобновлен. День выдался очень жарким, воды достать было почти невозможно, вследствие чего наша армия сильно пострадала. Одни получили солнечный удар, а другие просто падали от истощения. Всех, кто дальше идти не мог, погрузили в санитарные повозки и отправили обратно в Вашингтон. Ближе к полудню, наше утомительное шествие было несколько оживлено довольно частыми, доносившимися со стороны нашего авангарда, залпами, но виновниками этого шума являлись только наши стрелки – они заливали дождем пуль все, что выглядело так, будто за ним скрывалась либо хорошо замаскированная батарея, либо группа вражеских стрелков.
В течение дня всего дня армия пребывала в сильном волнении – мы полагали, что в любой момент мы можем встретиться с противником. Тем не менее, осторожно прощупывая свой путь, армия неуклонно продвигалась вперед, тщательно изучая каждое поле, здание или овраг, на многие мили, как перед собой, так и с флангов – и справа, и слева – и так до самого Сентервилля, где мы и заночевали.
Только теперь солдаты прочувствовали всю тяжесть этого марша и, похоже, былого веселья несколько поуменьшилось. Накануне выступления некоторые полки получили новую обувь, но теперь они с грустью убедились, что она мало годилась для столь долгой ходьбы, что ярко подтверждалось множество бедных, сплошь покрытых волдырями ног, и кроме того, очень многие из них в буквальном смысле превратились в сплошные раны – толстые шерстяные чулки почти начисто содрали с них кожу. Миссис Б. и я, перед самым отъездом из лагеря, запасшиеся большим количеством льняной ткани, бинтов, корпии, мази, etc., нашли все это теперь очень кстати, и задолго до первого выстрела нашего врага.
Наши хирурги приступили к подготовке к предстоящей битве – заняв несколько зданий и приспособив их для нужд раненых – среди них и возведенную из кирпича церковь Сентервилля – церковь, которую помнят многие солдаты, и будут помнить до тех пор, пока люди будут помнить те времена. Поздно вечером, возвращаясь из этой церкви в обществе м-ра и миссис Б., я предложила пройтись по лагерю и посмотреть, чем накануне первого сражения занимаются наши мальчики. Многие из них, устроившись у ярко пылавших костров, писали письма – во время марша каждый солдат имеет при себе полный набор письменных принадлежностей. Иные читали свои библии, – и, возможно, со значительно большим интересом, чем ранее, а третьи, разделившись на небольшие группы, вполголоса о чем-то беседовали – но подавляющее большинство, разлегшись на земле и закутавшись в одеяла, крепко спали – никто не осознавал, каким бурным и насыщенным опасностями будет грядущий день.
Мы уже собрались вернуться в наш, построенный мятежниками и оставленный ими лишь несколько дней назад бревенчатый домик, как вдруг услышали, что в расположенной недалеко от нашего лагеря роще, кто-то поет. Мы направились к роще и шли до тех пор, пока отчетливо не услышали, слова вот этого прекрасного гимна:
«O, for a faith that will not shrink,Though press'd by every foe,That will not tremble on the brinkOf any earthly woe;That will not murmur or complainBeneath the chastening rod,But, in the hour of grief and pain,Will lean upon its God;A faith that shines more bright and clearWhen tempests rage without;That, when in danger, knows no fear,In darkness knows no doubt.» [2]– Ах! – воскликнул мистер Б. – Я узнаю этот голос – это Вилли Л. Теперь я понял – сегодня вечером Вилли молится, и, несмотря на утомительность марша и отекшие ноги, он не забыл об этом. Мы подошли еще ближе, чтобы оставаясь незамеченными, вдоволь насладиться его пением, и сразу же после того, как последние слова гимна бесследно растаяли в тихом ночном воздухе, мощный и глубокий голос Вилли снова вознесся ввысь, заполнив всю рощу торжественными звуками страстной и жаркой молитвы. Он молился о завтрашней победе, за своих товарищей, за оставшихся дома родных, и его голос дрожал от волнения, когда он умолял Спасителя утешить и поддержать его овдовевшую мать, если так случится, что не суждено ему будет вернуться из этого боя.
Вслед за ней последовала проповедь – о том, что следует быть верными солдатами Иисуса и их любимой страны, о необходимости в любой момент быть готовыми, осенив себя святым крестом, выйти на поле боя и победить. Все молились и разговаривали, а потом – сначала около десятка, а потом уже и все присутствовавшие здесь – обратились к Престолу Благодати и торжественно засвидетельствовали силу Святого Евангелия в деле спасения грешников. Никто не заставлял кого-то другого молиться и никто не утверждал, что ему нечего сказать, а потом, чтобы доказать это наговорив достаточно много, ни разу и ни от кого не услышал упрека в том, что он был неинтересен своим собратьям. Время было потрачено с пользой, каждый делал то, что должен был сделать, и делал это быстро и без проволочки. По окончании собрания мы ушли на отдых, но чувствовали мы себя необыкновенно свежими и бодрыми.
После точного определения места расположения врага, генерал Макдауэлл приказал выдвинуться вперед трем дивизиям – которыми командовали Хейнцельман, Хантер и Тайлер, а Майлз остался в Сентервилле, в резерве. Воскресным утром, за несколько часов до рассвета эти три дивизии шли вперед, – великолепное зрелище! – колонна за колонной держали путь по холмам и залитым мягким лунным светом туманные долины, и в этом свете ярко блистала полковая сталь. Ни барабана, ни горна, и глубокая ночная тишина нарушалась лишь грохотом артиллерии, мерным и ритмичным гулом шагов марширующей пехоты и приглушенным рокотом тысяч вполголоса переговаривавшихся между собой людей.
Дивизии разошлись на перекрестке трех, ведущих к Булл-Рану дорог, и каждая из них, пошла по своей дороге. Вскоре стало светло, и в свете яркого утреннего солнца обе враждующие армии теперь могли хорошо рассмотреть друг друга. Враг стоял на покрывавших речные берега холмах, то тут, то там, увенчанных земляными укреплениями. Все леса, которые мешали огню его пушек, были полностью вырублены, и его пушки могли смести любого, кто попытался бы к ним подойти, с любой стороны. А вот наш берег был пологим и полностью покрытым густым лесом. Вскоре рев пушек сообщил нам о том, что битва началась.
Миссис Б. и я стояли на указанном нам месте – возле дивизии генерала Хейнцельмана, а наши лошади остались при нашем работнике, которому было строго приказано оставаться там, где он был, поскольку они в любой момент могли нам потребоваться. Память верна мне – я прекрасно вижу миссис Б. – она очень старается выглядеть храброй – на ней небольшая и узкополая шляпка из итальянской соломки, черная амазонка с подвернутой, чтобы не мешала ходить – с помощью ленты – юбкой, на поясе – украшенный серебряными нашлепками семизарядный револьвер, на одном плече – фляга с водой, а на другом – тоже фляга – но с бренди, а на боку – сумка – с едой, бинтами, пластырем, etc. Высокая и стройная, с темно-каштановыми волосами, бледным лицом и голубыми глазами.
Сидя на своем коне, капеллан Б. выглядел очень торжественно, словно стоя лицом к лицу с ангелом смерти. Первым погибшим, которого я видела, был артиллерист из команды полковника Р. Упавший прямо на батарею и разорвавшийся снаряд, убил одного и ранив троих мужчин и двух лошадей. М-р Б. спрыгнул со своей лошади, привязал ее к дереву и со всех ног побежал к пушкам, миссис Б. так же быстро, как только могли, последовали за ним. Я наклонилась над тем, чье лицо было залито кровью, и кто не мог быть никем иным, как Вилли Л. Его смертельно ранило в грудь, но мучился он очень недолго – вскоре на носилках его унесли с поля боя.
Издали увидев, что произошло с батареей, к ней подъехал полковник Р., и в самый тот момент, когда он отдавал необходимые приказы, стальная цельнолитая пуля пролетела настолько близко от его головы, что он остолбенел – буквально на мгновение, – но вскоре, вновь обретя способность здраво рассуждать и действовать, он тряхнул голову и пожал плечами, – как это было ему свойственно – и в самым обычным и будничным тоном сказав: «Да, довольно близко», поехал дальше, так беззаботно, словно мимо него пролетела не пуля, а самая обычная птица. Но абсолютно недовольная этой ремаркой пуля ударила по моей бедной маленькой наполненной бренди фляге, лежавшей рядом со мной на полковом барабане, разнеся ее на мелкие осколки – и с такой злобой, как будто до того, как попасть ко мне, она принадлежала могучему Ордену Добрых Храмовников.
А потом битва закипела с удвоенной яростью. Ничего, кроме грохота пушек, звона стали и треск ружейных выстрелов. Что за сцена для столь яркого и солнечного сияющего субботнего утра! Вместо всего того приятного, что ассоциируется у нас с Субботой, – звона призывающих нас к молитве храмовых колоколов, воскресной школы и торжественности церковной службы – хаос, разрушение и смерть. На мили вокруг спрятаться было негде – самым безопасным местом являлось место в боевом ряду. Очень многие в тот день – те, что решили показать спину врагу и укрывшиеся в расположенных в двух милях от места битвы лесах, впоследствии были найдены разорванными на куски пушечными ядрами – достойная награда для них, которые потеряв стыд и забыв о своем долге и своей родине, в тяжкий час сражения бросив свой пост и своих товарищей, сбежал – мечтая только о сохранении своей жизни.
ГЛАВА III
ВОДА ДЛЯ РАНЕНЫХ. – СМЕРТЬ ПОЛКОВНИКА КЭМЕРОНА. – ПОЛЕ БОЯ. – БРИГАДА БЕРНСАЙДА. – ЗАХВАТ БАТАРЕЙ ГРИФФИНА И РИККЕТТА. – МЯТЕЖНИКИ ПОЛУЧАЮТ ПОДКРЕПЛЕНИЕ. – ПАНИКА И ОТСТУПЛЕНИЕ. – СРЕДИ РАНЕНЫХ В СЕНТЕРВИЛЛЕ. – Я ИДУ НА РАЗВЕДКУ. – ВСТРЕЧА С СОШЕДШЕЙ С УМА ЖЕНЩИНОЙ. – Я ПРЯЧУСЬ ОТ ВРАГОВ. – ВОЗВРАЩЕНИЕ К РАНЕНЫМ. – В ОЖИДАНИИ ПЛЕНА. – Я УБЕГАЮ ОТ МЯТЕЖНИКОВ. – Я ИДУ В АЛЕКСАНДРИЮ. – СТЕРТЫЕ НОГИ И УСТАЛОСТЬ. – ПРИБЫТИЕ В ВАШИНГТОН. – ПИСЬМА ОТ РОДНЫХ ПОГИБШИХ СОЛДАТ.
Я поспешила в Сентервилль, располагавшийся в семи милях отсюда, чтобы пополнить свой запас бренди, корпии, etc. По возвращении я обнаружила, что место битвы было буквально сплошь усеяно ранеными, мертвыми и умирающими. Миссис Б. нигде не было видно. Неужели ее убили или ранили? Несколько секунд мучительной неопределенности, – и вот, – я увидела – во весь дух она скачет ко мне, а с ее седла свисает около пятидесяти привязанных к нему фляг. На все мои вопросы последовал лишь один ответ: «Оставьте пока раненых, солдат мучает жажда, они отступают». Затем прибыл и м-р Б., после чего мы все трое направились к источнику – в миле отсюда – по дороге собирая все попадавшиеся нам фляги и бутылки для воды. Это был самый ближайший к полю боя источник, враг знал это, а значит, стремясь не допустить наших людей к воде, разместил возле него стрелков, убивавших любого, кто пытался взять из него воды. Тем не менее, под дождем пуль Минье мы наполнили свои сосуды и благополучно вернулись назад, чтобы щедро и справедливо распределить плоды нашего труда среди наших измученных мужчин.
Таким образом, мы провели около трех часов, под ужасный шум ставшей еще более яростной битвы, и до тех пор, пока враг, с новой силой навалившись на наших людей, не овладел этим источником. Лошадь капеллана Б. получила пулю в шею и спустя несколько мгновений умерла. А потом мы с миссис Б. спешились и снова принялись ухаживать за ранеными.
А потом полковник Кэмерон – брат Военного Министра, – с криком: «Вперед ребята, мятежники отступают!» бросился вперед и упал – с пробитым пулей сердцем. Хирург П. в ту же секунду оказался возле него, но помочь полковнику было уже невозможно – его рана была смертельной, и вскоре он перестал дышать. На вынос мертвых времени не было. Мы сложили его руки крест-накрест на его груди, закрыли его глаза и оставили – в холодных объятиях смерти.
Тем не менее, битва продолжалась – воздух, наполненный картечью и всевозможными снарядами, дрожал от их пронзительных, сообщавших всем о своем страшном предназначении воплей, вид этого поля ужасен – искалеченные, сплошь покрытые ранами люди, безумными жестами призывают о помощи, их ноги, руки и тела изорваны и изломаны, земля красная от крови. Пушки мятежников – словно траву – смели бригаду Бернсайда, наши люди не в состоянии сдержать этот кошмарный шквал пуль и ядер, они дрогнули и медленно отступают, но тут, как раз в самый подходящий момент, к их глубокой радости, со своей командой появляется капитан Сайкс. Они – словно вихрь – взлетают на тот холм, который истощенная и почти совершенно уничтоженная бригада Бернсайда все же удерживает, и их встречает такой крик радости, какой испустить не может никто, кроме солдат, которых почти одолел злобный и ожесточенный враг и которые тем не менее получили поддержку своих храбрых товарищей.
Они идут вперед – к скатывающимся по склонам занятого вражескими пушками сгусткам огня и облакам дыма, – с ружьями наперевес – выстрел, еще выстрел – короткая вспышка – низкий, словно гром, звук залпа, – и теперь видно, как пошатываются и падают артиллеристы мятежников. Еще несколько секунд и пушки замолкают. В рядах мятежников паника и неразбериха. Полки рассеяны, офицеры на своих конях мечутся повсюду и яростно, стараясь перекрыть гром битвы, отдают свои приказы.
Батареям капитанов Гриффина и Рикетта приказано выдвинуться вперед и занять очищенную от мятежников высоту. Они занимают эту позицию и открывают такой интенсивный огонь, что почти полностью уничтожают врага. Битва кажется почти выигранной, враг в замешательстве отступает. Вот что генерал мятежников Джонсон сообщил тогда в своем официальном рапорте:
«Длительное сопротивление более сильному врагу и большие потери, особенно среди полевых офицеров, сильно обескуражили солдат генерала Би и полковника Эванса. Положение было критическим.»
И еще:
«Поскольку битва продолжалась много часов, при палящем солнце и без капли воды, успеха наши люди достичь не могли, ведь человеческой выносливости есть пределы, нам казалось, что все пропало.»
Эти слова – ясное свидетельство того, что со всей отчаянностью сражались обе стороны, и если бы не пополнение, победа, несомненно, была бы наша.
И вот как раз в тот момент, когда наша армия обрела уверенность в своем успехе и славно использовала все имевшиеся у нее преимущества, именно тогда мятежники получили подкрепление – это и я вилось причиной изменения хода битвы. Два свежих вражеских полка пошли во фланг – для того, чтобы взять батареи Гриффина и Рикетта. Они пошли через лес, поднялись на холм и выстроились прямо за спинами артиллеристов. Гриффин видит их приближение, но ему кажется, что это его подкрепления от майора Бэрри. Тем не менее, приглядевшись к ним внимательнее, он понял, что это мятежники и направил на них свои пушки. За мгновение до приказа открыть огонь, появился майор Б., крича: «Это ваше подкрепление, не стреляйте!» «Нет, сэр, это мятежники», – ответил капитан Гриффин. «Говорю вам, сэр, это ваша поддержка», – возразил майор Б. Повинуясь его приказу, пушки развернули обратно, и в то же время, мнимые подкрепления дали залп по артиллеристам. Мгновенно погибли все – и люди. И лошади. А еще через секунду эти славные батареи оказались в руках врага.
Известие об этом несчастье, словно лесной пожар разнеслось по нашим рядам; офицеры и солдаты полностью потеряли самообладание, полк за полком, бросал оружие и бежал – а потом начался хаос. Дорогу беглецам преградили перекрывшие ее несколько отрядов обнаживших свои сабли кавалеристов, но сил их было явно недостаточно, чтобы справиться с таким количеством бегущих. А потом, когда появилась артиллерия, с яростно хлещущими своих лошадей возницами, это еще больше усилило панику – и без того охватившую уже тысячи людей. Вот так мы и добрались до Сентервилля, где, хоть и не вполне, но в какой-то мере, порядок все же был восстановлен.
Миссис Б. и я отправились к каменной церкви, возле которой мы увидели огромные кучи сваленных без всякого порядка мертвецов. Но какими же словами мне описать то, что мне пришлось увидеть внутри! Я видела такие страдания, о которых, я думаю, ничье перо не сможет рассказать! Об одном из них я никогда не забуду. Это был несчастный юноша, оба бедра которого были перебиты, а все, что находилось ниже коленей, просто измолото на мелкие кусочки. Он умирал, – но – о! – как он умирал! Он бесновался, разум совершенно покинул его, и потребовалось два человека, чтобы хоть как-то удержать его. Но горячка и воспаление быстро сделали свое дело – смерть освободила его от мучений, таким образом оказав большую услугу и нам, и этому бедняге.
Я подошла к другому умирающему – он терпеливо переносил все выпавшие на его долю страдания. О, каким бледным было его измученное лицо! Я вижу его сейчас, его побелевшие губы и умоляющие глаза и его – такой трогательный – вопрос: «Как вы думаете, я умру до утра?» Я сказал ему, что мне кажется, что да, а потом спросила его: «Вы боитесь?» Он улыбнулся мне той прекрасной и доверчивой улыбкой, каковую мы иногда можем увидеть на устах умирающего святого, и сказал: «О, нет, я скоро упокоюсь в Иисусе», а потом тихо и жалобно произнес:
«Asleep in Jesus, blessed sleep.»Кто-то тронул меня за плечо. Обернувшись, я увидела, что меня просят подойти к тому, кто лежал в углу, на полу, лицом к стене. Я опустилась на колени рядом с ним и спросила: «Что я могу сделать для вас, друг мой?» Он с усилием открыл глаза и сказал: «Я хочу, чтобы вы взяли это», указав мне на лежавший рядом с ним небольшой пакет. «Храните его у себя до тех пор, пока не доберетесь до Вашингтона, а потом, – если для вас это не окажется слишком сложным – я хочу, чтобы вы написали моей матери и рассказали ей, как я был ранен, и что я умер истинным христианином». И только тогда я узнала, что я стою на коленях перед Вилли Л. Он почти ушел – совершенно готовый «выйти на поле боя и победить». Он дал мне знак наклониться к нему, и когда я выполнила его просьбу, он, положив свою руку на свою голову, попытался отделить от нее прядь своих волос, но не смог, но я все-таки догадалась, что он хотел, чтобы я сама срезала их и вместе с пакетом отправила его матери. Заметив, что я поняла его, он, похоже, очень обрадовался, что его последняя просьба была выполнена.
Потом капеллан Б. помолился за него и во время этой молитвы, счастливый дух Вилли вернулся к своему создателю. Небеса обрели еще одну душу, а одинокой матери осталось только оплакать его. Я подумала тогда, о, как уместны по отношению к ней эти поэтические строки:
«Not on the tented field,O terror-fronted War!Not on the battle-field,All thy bleeding victims are;But in the lowly homesWhere sorrow broods like death,And fast the mother's sobsRise with each quick-drawn breath.That dimmed eye, fainting close—And she may not be nigh!'Tis mothers die – O God!'Tis but we mothers die.»Наши сердца и руки были полностью заняты участием в подобных вышеописанным сценах и ни о чем другом мы не думали. Мы ничего не знали об истинном положении дел за пределами госпиталя и не могли поверить, что это вообще возможно, узнав, что вся армия отступила к Вашингтону, оставив и раненых в руках врага, и нас тоже – вот в такой довольно неприятной ситуации. Я не смогла принять эту суровую правду и решила сама во всем удостовериться. Я вернулась к холмам, где я видела складывающих для хранения и укладывавшихся на землю для сна и отдыха солдат, но теперь там никого не было. Тогда я подумала, что они просто перешли в другое место, и если я пройду дальше, я обязательно встречусь с ними. Вскоре я заметила мерцавший вдалеке огонек лагерного костра. Надеясь, что теперь все разъяснится, я поспешила к нему, но подойдя ближе, увидела возле костра лишь одного человека, и этим человеком была женщина.
Это была одна из прачек нашей армии, я спросила ее, что она тут делает, и куда ушла армия. Та ответила: «Я ничего не знаю об армии. Я готовлю ужин для своего мужа, каждую минуту я ожидаю его появления дома, посмотри, что у меня есть для него». С этими словами она указала мне на огромную кучу одеял, чересплечных сумок и фляг, которые она сама собрала и теперь охраняла. Вскоре я поняла, что бедняжка сошла с ума. Ярость и жестокость битвы оказались непосильны для нее, и все мои попытки убедить ее пойти со мной оказались совершенно бесполезны. Времени терять попусту мне нужды не было, я теперь точно знала, что армия и в самом деле ушла.
И вот я снова отправилась в Сентервилль. Пройдя лишь несколько родов[3], я услышала стук лошадиных копыт. Я остановилась и, глядя в сторону только что покинутого мною костра, заметила, что к нему подъехали несколько кавалеристов, а женщина все еще сидела возле него. К счастью, у меня не было лошади, которая могла бы каким-то образом привлечь ко мне внимание, я оставила ее в госпитале, ведь я не собиралась покидать его надолго. Мне было ясно, что это мятежники, и теперь передо мной стала задача немедленно исчезнуть из поля их зрения, если это возможно, пока они не уедут. Затем мне подумалось, что женщина у костра наверняка не нашла ничего лучшего, как рассказать им о том, что я была возле ее костра лишь несколько минут назад. К счастью, я находилась у ограды, возле которой рос густой кустарник, и по мере того, как на землю опускалась ночь, а потом начал накрапывать дождь, я думала, что до утра, по крайней мере, я наверняка останусь незамеченной. Мои подозрения оказались верными. Они понемногу приближались ко мне, да и эту женщину они заставили идти впереди и указывать им верное направление. Я решила заползти под ветви одного из кустов, что я и сделала, и едва я скрылась под ними, как они тотчас появились и стали именно у того самого, укрывшего меня, куста.
Один из всадников спросил ее: «Послушайте, миссис, вы уверены, что она может рассказать нам что-нибудь, если мы найдем ее?» «О, да, конечно, конечно», – ответила им эта женщина. Затем они отъехали от нее, а затем снова вернулись, вновь и вновь они обвиняли женщину в том, что она просто играет с ними, наконец, они пригрозили застрелить ее, и она заплакала. Спектакль, конечно, интересный, несомненно, но он мне не понравился, ведь мне было так неуютно в такой непосредственной близости от его участников. Все закончилось тем, что терпение их лопнуло и они, прихватив с собой ту женщину ускакали прочь, а я оставшись в блаженном неведении того, какую тайну они хотели от меня узнать, впервые в своей жизни порадовалась тому, что моя «любознательность» не была удовлетворена.
Я оставалась по кустом до тех пор, пока не исчез последний отзвук их удаляющихся шагов, а потом я очень осторожно выбралась из-под него и направилась к Сентервиллю, где меня ожидала интересная новость – м-р и миссис Б. ушли, и предположив, что я попала в плен, мою лошадь увели с собой.