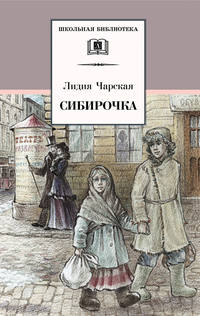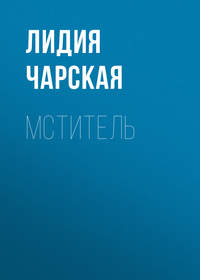Полная версия
Тайна института
– Mesdames, – громко продолжает Ника и стучит по столу забытым Скифкой ключом, – Стеша приведет девочку нынче ровно в одиннадцать часов в дортуар; постараемся сегодня улечься «без бенефисов». Пускай Скифка уползает скорее в свою конуру. Не правда ли?
– Конечно, конечно… Бедная девочка!.. Как жаль, если не удастся ее пристроить!..
– Как не удастся? Должно удаться!
– И устроим! И сделаем!
– Вне всякого сомнения!
– Разумеется!
– Понятно!
Ключ снова стучит по кафедре. Крики усиливаются…
Неожиданно раздается звонок, призывающий к чаю и к вечерней молитве. Вслед за тем в класс как-то боком вползает Скифка. Лицо ее багрово пылает. Глаза прыгают и мечутся в узеньких щелках век.
– Чернова! – звучит ее трескучий голос зловеще. – Komm her![13]
Черненькая Алеко выступает вперед.
– Стыдно так обманывать свою наставницу, позор! Где ты видела даму с серым пером и в черном платье?
Шуру Чернову душит смех, и, лукаво опустив черные ресницы, она шепчет к изумлению классной дамы:
– На картинке.
– Wie so?[14]
Скифка так озадачена, что теряет способность задать шалунье более подробный вопрос.
– Фрейлейн, – смиренным голосом подхватывает Шура, – клянусь вам, я видела такую даму на картинке… Она мне показалась на вас похожей: те же глаза, те же волосы, нос…
– Словом, душка! – подхватывает шепотом Ника, дрожа от смеха.
– И с тех пор она мне является всюду: и в коридоре, и в классе… И сейчас, когда я возвращалась из лазарета, мне ясно почудилось, что она подошла ко мне и сказала: «Вызовите фрейлейн Брунс из выпускного класса».
Голос Алеко полон подкупающих интонаций. Смирением веет от ее смуглого, «разбойничьего», как его называют классные дамы, лица.
Но Скифку трудно провести. Она бросает в сторону Черновой убийственный взгляд, щурит и без того узенькие глазки-щелки и говорит:
– Bitte, nur keine Grimassen![15] А чтобы тебе больше не «казалось», я сбавила два балла за поведение. Поняла?
– Поняла… – покорно стонет Шура, в то время как Ника делает ей «умное» лицо.
– В пары, становитесь в пары! – внезапно разражается Скифка и, по обыкновению, стучит ключом по столу.
В одно мгновение воспитанницы становятся по двое и длинной вереницей выходят из класса.
– Не шаркать подошвами! Поднимать ноги! – снова кричит Скифка.
Зеленая вереница девушек смиренно и стройно спускается вниз.
Длинная комната уставлена столами; целые ряды столов, и за ними на жестких скамейках без спинок – около трех сотен зелено-белых девушек, одинаково одетых в тугие, крепкие камлотовые[16] платья, напоминающие цветом болотных лягушек, и в белых передниках, пелеринках и привязанных рукавчиках, именуемых на институтском языке «манжами». Подается ужин, состоящий из горячего блюда, затем чай с булкой.
После ужина – вечерняя молитва. Дежурная по классу читает длинный ряд молитвословий и псалмов. «Отче наш» и «Верую» певчие повторяют хором. Евангелие читает Капочка Малиновская, «Камилавка», как ее дружно окрестили воспитанницы выпускного и других классов.
Капочка – дочь учителя. Это удивительная девушка. Она молитвенница и постница, каких мало. Религиозная, читающая одни только священные книги и только иногда, в виде исключения – произведения классиков, знакомство с которыми необходимо в старших классах. Она самым чистосердечным образом считает ересью и грехом все то, что не отвечает требованиям религии. Худенькая, нескладная, с некрасивым веснушчатым лицом и утиным носиком, девушка эта как-то странно изменяется, становится почти прекрасной в те минуты, когда читает псалтирь в скромной институтской церкви.
Дьячка в институте не полагается, и его обязанности несет та или другая воспитанница, она же читает и Евангелие на утренней и вечерней молитвах. Обыкновенно роль дьячка исполняет Капочка. Тогда голос девушки крепнет, в нем появляются какие-то удивительные бархатные ноты. Слова она произносит с захватывающим выражением, и из суровых, недетских глаз, кажется, исходят лучи. Капа затаила в своей душе несбыточную, дерзкую мечту: она мечтает проповедовать Евангелие среди оставшихся в обширном мире язычников-дикарей и пострадать за Христа, как страдали когда-то древние мученицы христианства.
Ее раздражает всегда одна и та же мысль: почему женщины не могут быть священниками. О, с каким восторгом она вступила бы на этот путь, отрекшись, как монахиня, от светского мира. Увы, мечта так и остается мечтой!..
Но вот смолкает бархатный голос Капочки. Выпускные пропели хором «Спаси Господи люди Твоя», и снова ряды воспитанниц стройными шеренгами движутся по лестнице, коридору и расплываются в разные стороны, каждое отделение в свой дортуар.
Глава V
Как-то удивительно бесшумно улеглись сегодня выпускные воспитанницы по своим постелям. Не только «образцовые» (лучшие – по институтскому определению), но и «отпетые» (худшие) не проронили сегодня ни одного громкого слова ни в дортуаре, ни в умывальной, прилегающей к спальной комнате. Только Эля Федорова, самым искренним образом считающая себя «большим голосом» и талантом, но фальшивящая на каждой ноте, запела, добросовестно натирая руки кольдкремом, свою любимую и вечно повторяемую «Гай да, тройка… снег пушистый…». Но на нее тотчас же со всех сторон дружно зашикали и замахали руками:
– Что ты, с ума сошла? Не раздражай Скифку… Вспомни, какая сегодня ночь…
Тер-Дуярова, подкравшись к постели Ники Баян, шепнула:
– Ну что, душа моя, пойдем мы нынче в «Долину вздохов»? Княжна и Мара, наверное, ждут вас там.
– Ах, до княжны ли нынче, Шарадзе, – засмеялась Ника, вспыхивая и краснея до ушей.
– Ну, вот еще, а я, как нарочно, новую загадку вспомнила… Хотела Маре нести… Теперь не придется, – вздыхает армянка.
– Хорошо, нам загадаешь, – снисходительно разрешила Ника и, немного повысив голос, сказала, обращаясь ко всем остальным:
– Mesdames! Приготовьтесь: Шарадзе новую загадку сейчас задаст.
Мгновенно все становятся около постели Ники, на краю которой торжественно устраивается Тамара, заранее смакующая прелесть своей шарады. Пылающими глазами она обводит сомкнувшихся вокруг нее одноклассниц.
– Что это, душа моя, скажи: менее восьми, больше шести, ходит туда-сюда… Очень прилично…
В слове «прылычно» Тамара произносит «и» как «ы», как всегда, когда немного волнуется. Кто-то фыркает.
– Mesdames, наша Шарадзе, душа моя, в математику пустилась. Так цифрами и сеет! – хохочет Ника.
– А ты не смейся, а скажи! Смеяться каждый может, а решить не каждый может, – с апломбом говорит армянка.
– Глупость какая-то, – решает Золотая рыбка и смеется своим хрустальным смешком.
– Сама-то ты глупость. И твой аквариум глупость, – неожиданно вспыхивает Тамара. – А это, что задала я вам, не глупость, а…? Не угадываете? Так вот вам – трамвай.
– Как трамвай? Почему трамвай? – звучат удивленные возгласы.
– Ну да, трамвай № 7, душа моя. Ведь по-русски говорила: поменьше восьми, побольше шести, ходит туда-сюда. Очень прилично. Трамвай № 7 и есть.
– Ха-ха-ха!
Все хохочут неудержимо, все, кроме Камилавки, которая и смех считает ересью, грехом.
– Mesdames, тише. Скифка из конуры своей сейчас выползет.
Действительно, легкая на помин Августа Христиановна стоит на пороге своей комнаты, хлопает в ладоши и кричит:
– Schlafen, Kinder, schlafen![17]
В один миг все разбегаются по своим постелям. Дежурная щелкает выключателем, и все лампочки, за исключением одной, гаснут. Дортуар сразу погружается в приятную для глаз полутьму. Теперь фрейлейн Брунс тенью скользит по «промежуткам», то есть по проходам между тремя рядами кроватей.
«Сегодня улеглись без шума. Слава Богу!» – говорит сама себе Скифка, заранее мечтающая о теплой постели и завтрашнем свободном от дежурства дне.
Только что-то чересчур уж долго молится Малиновская, стоя на коленях в своем «переулке», и подозрительно шепчется «влюбленная парочка» – Чернова и Веселовская, – не замышляют ли чего-нибудь на ее счет? От этой Черновой, как и от Баян, всего можно ожидать, обе – «буянки», обе – «сорвиголовы» и «разбойницы», обе из «отпетых», – томится бедная фрейлейн Брунс.
– Чернова, молчать! Не шептаться! И ты, Баян, спать! – неожиданно резко раздается ее окрик в полутемном дортуаре.
– Ай! – взвизгивает Золотая рыбка делано испуганным голосом. – Кто это кричит? Я заснула, а меня разбудили…
– Трамвай № 7! – торжествующе поднимает голос армянка.
– Ха-ха-ха! – забывшись, громко хохочет Ника.
– Баян! Сейчас же спать.
– Я сплю… – покорно соглашается Баян.
Смех ее смолкает мгновенно. Легкий вздох вырывается из груди. Два обстоятельства волнуют Нику. Во-первых, необходимо восстановить полную тишину в дортуаре и дать Скифке убедиться в общем спокойствии, а во-вторых… Это «во-вторых» смущает Нику не меньше. Там, в «Долине вздохов», или попросту, на площадке церковной лестницы, ждет ее «Сказка».
Ника Баян, кумир всего института, всячески скрывает от всего класса, что обожает Сказку. Знает об этом только одна Шарадзе, знает, потому что, в свою очередь, «бегает» – как выражаются институтки – за подругой Сказки, второклассницей, юной грузиночкой Марой Нушидзе, с которой княжна Заря Ратмирова, «предмет» Ники, неразлучна.
Ника и сама не может понять, что тянет, ее, умную развитую, талантливую, бойкую и шаловливую девушку, к всегда молчаливой, странно таинственной Заре, с ее красно-рыжими волосами и странными, какими-то пустыми глазами серо-синего цвета, с тихим, как бы надтреснутым голосом и плавными движениями. Но тянет ее к Заре неудержимо, несмотря на то, что Заря больше молчит и никогда не смеется… «Синьора Серьеза» прозвали ее в насмешку подруги-второклассницы. Но это молчание, эта серьезность Сказки (так прозвала княжну Ратмирову сама Ника) и пленяют экзальтированную девушку. Ника Баян, со свойственной ей откровенностью, рассказала Сказке все о себе: и о том, что ее, Никин, папа – командир кавалерийского полка, и о том, что у нее есть два брата и бабушка, которые живут далеко-далеко, чуть ли не на самой границе Маньчжурии, что она ездит верхом, как казак или туземец-маньчжур, джигитует, умеет плясать, подражая знаменитой Айседоре Дункан, босоножке, и прочее, и прочее… А о княжне Заре Ника не знает ничего.
Слышала только, что род Ратмировых захудалый и бедный и что княгиня, мать Зари, приходит на прием к дочери в стареньких платьях и стоптанных башмаках. Но это еще больше привлекает Нику к ее Сказке. Эта молчаливая гордая бедность так подходит к таинственному образу княжны.
Сейчас Ника думает о ней, о том, что Заря и Мара ждут их с Тамарой в «Долине вздохов». Но сегодня Ника туда не пойдет: ей надо подумать и решить, что делать с маленькой девочкой, как выручить Стешу. И она думает – долго, напряженно… Вдруг что-то радостное вливается ей в грудь. Рой светлых, счастливых мыслей проносится, как молния, у нее в голове. Сердце начинает биться, как птица в к летке, быстро и бурно… О, какое счастье! Она нашла выход, она знает, как помочь горю!
– Невеста Надсона, невеста! Ты не спишь? – шепотом обращается она к своей соседке с левой стороны (справа помещается Оля Галкина, донна Севилья).
Вместо ответа белокурая Наташа Браун, успевшая уже задремать, декламирует спросонья:
Мне снится эта ночь и снится он… угрюмый,Без цели он бредет на площади глухой,Сжигаемый своей мучительною думой,Страдающий своей непонятой тоской…– Тише, ради Бога тише, Наташа… – молит Ника. – Слушай, что я придумала.
И она тут же наскоро сообщает соседке так кстати явившуюся ей счастливую мысль.
– Ах! – Наташа даже всплескивает беленькими ручками от восторга – такой удачной кажется ей мысль Ники.
– Ника, прелесть моя, дай я тебя поцелую… – лепечет Наташа и бросается на грудь подруги.
Затем обе девушки берутся за руки и босиком, в одних рубашках, направляются из дортуара в умывальную – просторную комнату с медным бассейном-желобом для мытья и с десятком кранов, ввинченных в прилаженную к стене медную же доску. Маленькая лампочка освещает умывальную. В углу ее в выдвинутом ящике огромного комода-постели спит дортуарная девушка. Ее толстая русая коса свесилась на пол. Руки закинуты за голову, рот полуоткрыт.
– Нюша, Нюша! Проснитесь! Идите вниз и пробудьте до двенадцати ночи у вас в девичьей… – говорит шепотом Ника, расталкивая спящую горничную. – И если вы обещаете молчать о том, что я вас просила уйти сегодня, то получите за это рубль на чай.
Растерявшейся Нюше остается только повиноваться. Она встает, покорная, заспанная, смущенно – на глазах барышень – натягивает чулки, белье, платье, накидывает платок и исчезает.
Теперь Ника стремительно и бесшумно, на цыпочках, едва касаясь земли, бросается в дортуар. Здесь, проворная и легкая, как серна, она обегает постели, целые три ряда постелей с неподвижно застывшими в них, дабы обмануть бдительность Скифки, воспитанницами, и срывает одеяло с каждой из них. В другое время несдобровать бы Нике, но сегодня, сейчас, воспитанницы выпускного класса отлично знают, что означает этот решительный маневр. И не дольше как через минуту тридцать пять белых фигур в длинных ночных рубашках и в туфлях на босу ногу бесшумно скользят за дверь…
* * *– Mesdam’очки смотрите, какой душонок!
– Прелесть какая!
– Это – маленький ангел! Очаровательный ангелок!
– Поцелуй меня, котик мой!
– Нет, нет, меня первую!
– И меня, и меня тоже!
В умывальной собрался, за малым разве исключением, почти весь выпускной класс. В дортуаре остались только двое: «Спящая красавица» Нета Козельская, вялая девушка, имеющая способность засыпать всюду, где можно и где нельзя: в классе на уроках, в столовой за обедом, в часы рекреации в зале, не считаясь с обстоятельствами места и времени, да еще Лулу Савикова – первая ученица, любимица классных дам, усердная, прилежная и помешанная на приличиях. Институтки-одноклассницы недаром прозвали ее «m-lle Комильфо»[18], или «Комильфошкой». Лулу, искренне считая себя аристократкой, хотя она всего только дочь небогатого чиновника, постоянно делает замечания подругам по поводу их неумения держать себя.
– Fi donc![19] Какие у тебя манеры! Это неприлично! – постоянно повторяет она.
Сама она настолько чопорна, медлительна, сдержанна, так рассчитывает каждое свое движение, что напоминает куклу-автомат. Разумеется, и нынче она не пожелала прийти босой, в одной рубашке в умывальную комнату, чтобы посмотреть на племянницу Стеши, и предпочла, хотя и сгорая от любопытства, оставаться в постели.
Но зато Валерьянка – Валя Балкашина, удивила всех. Пренебрегая сквозняками и холодом, которые мерещились ей везде и всюду, она одной из первых появилась в умывальной, правда, конечно, в теплых чулках, во фланелевой «собственной» юбке и в кофте, накинутой поверх казенной сорочки, да еще кутаясь в теплый байковый платок. Заранее волнуясь и нюхая соли, она с меланхолическим видом посасывала мятные лепешки от тошноты (ее всегда тошнило в минуты волнения).
Ровно в одиннадцать часов, словно по команде, бесшумно открылась коридорная дверь, и Стеша, держа на руках малютку-племянницу, очутилась среди воспитанниц.
Глаша, ошеломленная встретившим ее бурным восторгом, прижалась к груди своей молоденькой тетки и, закрывшись ручонкой, из-под ладошки разглядывала лица окружавших ее институток.
– Барышни… Золотенькие… Ради Господа Бога, потише… Не погубите… – шептала Стеша, и ее обычно румяное лицо теперь заметно побледнело. – Потише, барышни, милые… Услышит Августа Христиановна – будет беда…
– Не услышит, она спит…
– И сладко грезит во сне…
– О старой сосне…
– Ха-ха-ха!
– А Глашенька ваша – душонок. Прелесть, что за мордочка! Не правда ли, mesdames?
– Ангел! Прелесть! Восторг!
– Она, пожалуй, некрасива, но что-то в ней есть такое…

– Неправда, неправда… Она красавица, лучше Баян и даже Козельской.
– Ну, уж Козельская твоя! Сурок, сонный крот и сова… Глашенька же – божество!
А «божество» в это время с аппетитом обсасывало барбарисовую карамельку, предупредительно подсунутую ей кем-то из воспитанниц. Черные глазенки Глаши лукаво поблескивали, а пухлые губки складывались в очаровательную улыбку.
– Однако ж, mesdames, соловья баснями не кормят. «Душка», «восторг», «божество», «прелесть» – это мы говорить можем, а что нам делать с Глашей, этого, оказывается, нам придумать не под силу, – первой повысила голос Шура Чернова, и ее густые брови энергично сомкнулись над черными глазами.
– Да что придумывать-то барышни? Хошь лбом стену пробей, не придумать ничего, – с отчаянием произнесла Стеша, – разве только одно: укутаю я потеплее Глашку, отнесу отсюда и оставлю на улице. Авось, добрые люди ее подберут. Все едино – ни в подвал, ни в девичью нам с ней возвращаться нельзя. Я сказала, что увожу ее к знакомым, что берут они у меня девчонку. Стало быть, на улицу и надо ее нести.
– Нет, нет! Что вы такое говорите, Стеша!.. Это невозможно!.. Это бессердечно и жестоко!.. Я придумала совсем другой выход и, кажется, хороший и, кажется, счастливый… Хотите скажу?
Глаза Ники Баян искрятся. Лицо улыбается, ямочки на нем играют.
– Говори же, говори, что придумала, – нетерпеливо шепчут кругом.
– Ах, вы убедитесь, это очень просто… Совсем просто…
Легким прыжком Ника вскакивает на край комода и, сидя «на облучке», говорит уже пылко, горячо:
– Вы знаете, конечно, Бисмарка, Ефима; у него есть отдельная комнатка. Она полностью изолирована, туда никто не ходит. Она под лестницей… Я несколько раз заглядывала в нее, когда посылала Ефима за покупками. Он очень аккуратный, чистый… И в каморке у него чистота… Он грамотный, читает газеты. Значит, умный, значит, толковый… Недаром же целые поколения институток прозвали его «Бисмарком». У него две слабости: любовь к политике и к детям. Он постоянно зазывает к себе детишек и возится с ними. Что если попросить его приютить у себя Глашу – до поры до времени?.. Потом мы устроим ее как-нибудь иначе, а пока… Кормить и одевать мы ее будем сами; каждый день от обеда и ужина по очереди каждая из нас будет отдавать ей свою порцию, – одна суп, другая жаркое, третья сладкое. На карманные деньги станем покупать ей платьица и сладости.
– И лекарства, в случае если она заболеет, – вставляет неожиданно Валерьянка.
– Тс! Тс! Не мешай говорить Нике!.. – шикают на нее подруги.
– Ну, лекарств покупать не придется. Мы будем иметь их даром – из Валиной аптеки, – острит Золотая рыбка.
И на нее шикают тоже и машут руками.
– Продолжай, Ника, продолжай… – слышится кругом.
– Но все это надо делать, mesdames, с полным, абсолютным сохранением тайны. Чтобы никто не знал, кроме Бисмарка, Стеши и нас. Хранить свято наш секрет от начальства. Сторожу Ефиму мы будем платить за угол… Не знаю, поняли ли вы меня…
– Поняли! Поняли! – послышались сдержанные голоса.
– Вы понимаете, mesdames, Глаша будет как бы «дочь института», наша дочка.
– Да! Да! Да!
Лица институток, оживленные и взволнованные, обращены к Нике Баян.
Нет, она положительно маленький гений, эта Ника! Кто подсказал ей этот чудесный план? Каким новым радостным смыслом благодаря ему наполнится теперь жизнь выпускных, такая серая, такая будничная, обыденная – до этой минуты.
– Mesdames, мы будем всячески заботиться о ней, раз она теперь является нашей маленькой дочкой, – мечтательно говорит невеста Надсона.
– Да, да! И пусть она называет нас всех мамами, – в тон ей шепчет Хризантема.
– Ну вот еще!.. Тридцать пять мам!.. Есть от чего с ума сойти!.. Я бы хотела лучше быть папой, – выступает с лукавой усмешкой Алеко.
– Ну вот и отлично! Шура Чернова будет папа, а я бабушка! – и, забывшись, шестнадцатилетняя бабушка Ника Баян хлопает в ладоши, хохочет и прыгает на одном месте.
– В таком случае, я буду дедушкой, – бухает Шарадзе и торжествующим взглядом обводит подруг.
– Только не вздумай мучить ее загадками и шарадами. С ума от них можно сойти, – звенит своим голоском Золотая рыбка.
– Нет, нет, я предоставлю Хризантеме рассказывать ей о цветах, донне Севилье об Испании, а невесте Надсона – читать стихи любимого поэта, – покорно соглашается Тамара.
– Нечего сказать, блестящее воспитание получит наша дочка, – смеется Земфира, она же Мари Веселовская. – Mesdames, – прибавляет она, – раз главные роли уже распределены, я предлагаю быть ее теткой.
– И я.
– И я тоже!
– И я, – слышатся голоса, – теток может быть много, это не матери.
– Mesdames, остается свободной вакансия на дядей. Желающие есть? – самым серьезным образом спрашивает донна Севилья.
– Нет, нет. Дядя должен быть один – Бисмарк-Ефим. Это его привилегия.
– А захочет ли он вообще принять к себе Глашу?
– Ну вот еще! Как он сможет не захотеть, как он посмеет не захотеть? Ведь мы ему за это платить будем!
– Не то, не то, – и черненькая Алеко снова выступает на сцену. – Во-первых, не будем наивны и не станем думать, что облагодетельствуем Ефима предложением взять девочку. Бесспорно, он многим рискует, если примет Глашу. Ведь его за это могут лишить места. Без спроса в сторожке, как и всюду среди этих чопорных стен, не может по селиться ни одна живая душа. Но, правда, и я слышала, что Ефим обожает детей и что у него недавно умерла маленькая внучка в деревне, а потому я убеждена, что он исполнит нашу просьбу – возьмет Глашу.
– Только бы она не болела! Я подарю Ефиму мою аптечку… И научу его, как и по скольку давать Глаше лекарств… – задумчиво произнесла Валя.
– Ну, пошла-поехала! Этого еще не хватало: здоровую девчушку пичкать валерьянкой и мятой! – зазвучали негодующие голоса.
– Нет, что вы! – внезапно смущается Валя. – Я только предложила бы делать химические анализы той пищи, которую будем давать нашей дочке… Надо же знать, сколько белковых веществ в нее входит.
– Душа моя, помолчи лучше, – бесцеремонно обрывает ее Шарадзе, в то время как все остальные сдержанно смеются.
Несмотря на этот смех и суету, Глаша, единственная причина всех этих горячих споров и волнений, умудряется заснуть на руках Стеши. Ее белобрысая головка прислонилась к плечу девушки, темные ресницы сомкнулись, алый ротик приоткрыт…
– Mesdames, тише: она заснула. Какой душонок! Я сейчас же со Стешей иду к Бисмарку и буду просить, молить и требовать, чтобы он принял нашу Глашу, – взволнованно говорит Ника Баян и мчится в дортуар одеваться.
– И я с тобой, и я, – шепотом настаивает Тамара Тер – Дуярова.
– Прихватите и нас с Земфирой, – просит Алеко.
Через минуту целая депутация во главе со Стешей, несущей сонную Глашу, крадется из умывальной, сопровождаемая напутствиями и пожеланиями остающихся. Среди последних возникают новые разговоры, новые горячие споры.
– Глаша – это невозможное имя, – возмущается поэтичная невеста Надсона. – Глаша… Глафира… ужас!
– Назовем ее как-нибудь иначе, это ни к чему не обязывает… – предлагает донна Севилья. – Ах, – с пафосом добавляет она, – у русских нет достаточно красивых имен. Это не Испания. Если бы ее можно было назвать донной Эльвирой… донной Лаурой… донной Альфонсиной… Как это было бы прекрасно!
– Перестань грешить, Галкина! – неожиданно и сурово обрывает ее Капочка Малиновская. – Католическое имя для русской – это недопустимо!
– Ничего тут нет грешного, ей-Богу, – хорохорится Ольга, – откуда ты взяла?
– А произносить имя Господа Бога твоего всуе – грех и ересь сугубая, – не унимается Капочка.
– Mesdames, уймите же эту святошу – уже сердится Ольга.
– Простую смертную, грешницу, святошей называть – троякий грех и ересь, – бубнит Малиновская, награждая Галкину уничтожающим взглядом.
– Mesdames, держите меня, а то я Бог знает что с ней сделаю! Я не отвечаю за свой испанский темперамент! – внезапно разражается смехом донна Севилья.
Вдруг Золотая рыбка ударяет себя ладонью по лбу.
– Придумала! Придумала! Это не имя, а прозвище. И какое красивое! Какое подходящее! – звенит ее хрустальный голосок.
– Ну? – срывается у всех одним общим выдохом.
– Мы станем называть ее «Тайной». Не правда ли, хорошо? – и глазки девушки вспыхивают и загораются оживлением.
– Лидочка, ты – богиня мудрости, ты – сама Афина Паллада! Дай я тебя поцелую за это!.. – и Муся Сокольская, Хризантема, с поцелуями бросается на грудь подруге.
– «Тайна института». Это и красиво и… и… удобно. Так и будем называть ее «Тайной», – продолжала развивать свое предложение Золотая рыбка, сама, очевидно, восхищаясь пришедшей ей на ум мыслью.
– Великолепно! Очаровательно! – восклицает Хризантема.
– Тайна! Это чертовски хорошо!
– Лучше всяких испанских имен, пожалуй, – соглашается и донна Севилья.