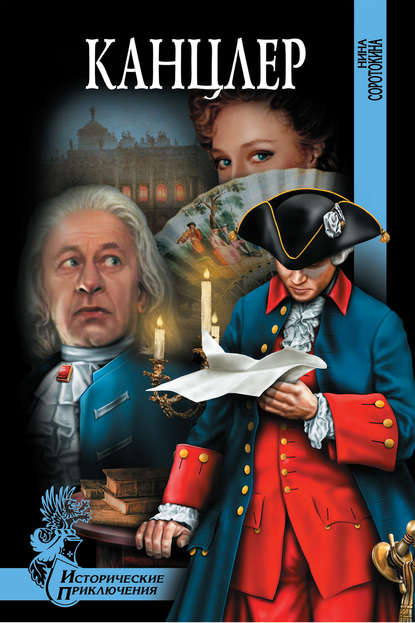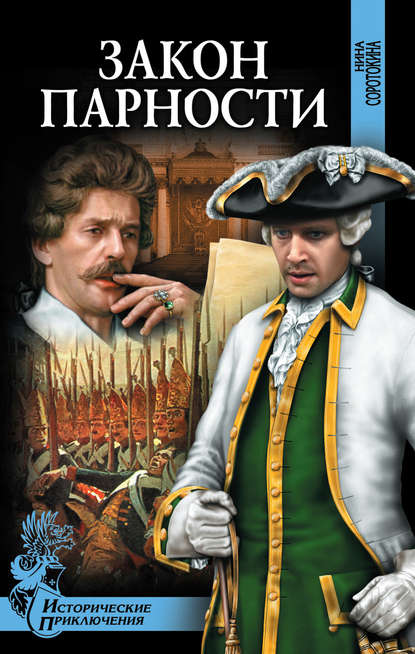Наблюдательный отряд

Наблюдательный отряд
Жанр: детективыисторические приключенияисторические детективышпионские детективыспецслужбыПервая мировая войнадореволюционная Россияконтрразведка
Язык: Русский
Год издания: 2018
Добавлена:
Серия «Исторические приключения (Вече)»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента