
Полная версия
Западно-Восточный экран. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 12–14 апреля 2017 года

Западно-Восточный экран. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 12–14 апреля 2017 года
Посвящается 85-летию со дня рождения А.А. Тарковского
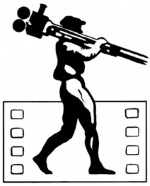
Составитель: профессор кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа, доктор филологических наук Мильдон В.И.
На обложке:

Микеланджело, Апостол Матфей, 1505–1506.

Обломок статуи Будды из храма Ват Махатхат, XIV в. Таиланд.
Пределы эмансипации. Освобожденная женщина Востока в кинематографе сталинской эпохи
УДК 791.43.03
Апостолов А.И.,
Москва, главный редактор киностудии им. М. Горького, старший научный сотрудник НИИ киноискусства
В статье рассматривается эволюция подхода к образу «освобожденной женщины востока» в кинематографе сталинской эпохи, предлагается объяснение необычайной востребованности этой темы на рубеже 1920-1930-х и кризиса ее развития в 1940-е годы. Основным материалом для анализа служат фильмы среднеазиатских киностудий указанного периода и картины Дзиги Вертова «Три песни о Ленине» и «Колыбельная».
Ключевые слова: восток, женщина, эмансипация, Сталин, эволюция.
The limits of emancipation. The liberated women of the East in the cinema of the Stalin era
The article describes the evolution of the approach to the image of the “liberated women of the East” in the cinema of the Stalin era, provides an explanation for the extraordinary relevance of this topic at the turn of the 1920-1930-s and for the crisis of its development in the 1940-ies. The main material for analysis are the films of the Central Asian film studios of a specified period and Dziga Vertov’s movies “Three songs about Lenin” and “Lullaby”.
Key words: east, woman, emancipation, Stalin, evolution.
Вряд ли в советском «немом» кинематографе второй половины 1920-х годов найдется тема, сравнимая по растиражированности или, проще говоря, по числу обращений, с темой раскрепощения женщины советского востока в результате Октябрьской революции и последовавшего за ней коренного преобразования во всех сферах социальной жизни. Причины такой востребованности кажутся вполне очевидными: именно восточная женщина представала в коллективном воображении в качестве наиболее закабаленного и бесправного в дореволюционную эпоху существа. Стало быть, чем более унылой и безысходной выглядит дореволюционная доля избранного представителя угнетенных, тем разительнее будет позитивная метаморфоза его положения в результате пореволюционных реформ и радения новой власти.
У советского агитпропа вряд ли мог отыскаться более подходящий сюжет для наглядной демонстрации претворения в жизнь коммунистического императива «кто был ничем, тот станет всем», чем эмансипация восточной женщины. По словам специалиста по истории среднеазиатского кинематографа Г. Абикеевой, «советской власти <…> было необходимо показать «освобожденных женщин Востока». <…> Необходимо было изобразить непокорных жен, протестующих против традиционного уклада жизни, – появлялось множество фильмов, где женщина уходила от мужа, уезжала учиться и т. д. Все это соответствовало основной линии идеологии большевиков по эмансипации женщин»[1].
Разумеется, образ раскрепощенной социализмом женщины занимал отнюдь не последнее место и в иконографии русской советской кинематографии, но все же в Средней Азии эта тема была единственно магистральной, в то время как в советской России – одной из. «В советском кинематографе разработка женских образов во многом связана с попыткой исследования, воплощения тех колоссальных, невиданных перемен, которые произошли в самосознании личностей в процессе становления советского государства. <…>Но если фильмы русского кино, такие как «Мать» Вс. Пудовкина и «Член правительства» Н. Зархи[2] и И. Хейфица, поставили эту проблему в ряд с другими, то в среднеазиатском кинематографе воплощение женского образа стало центром и средоточием проблематики, так как давало лучшую возможность для наглядного отображения сущности происходящих исторических перемен»[3].
Одной из причин, спровоцировавших экзальтированную возгонку данной темы стала неожиданная проблема, с которой столкнулось большевистское руководство в работе с так называемым «внутренним востоком». Речь идет о быстро обнаружившемся отсутствии местного пролетариата. Это зияние на месте центрального субъекта революции не могло не превратиться в своего рода «фундаментальную нехватку» с точки зрения легитимации советской власти во всем регионе. На проблему отсутствующего пролетариата на окраинах империи, не успевших к моменту революции добраться до капиталистической ступени в формационной лестнице общественных укладов, обратил внимание и Ленин. Предложенное решение было по-своему парадоксальным и предваряло советское отношение к послевоенным антиколониальным национально-освободительным движениям. По сути, было решено «пролетаризировать» те нации, в которых отсутствовал рабочий класс, практически целиком, в силу их якобы пролетарского положения по отношению к нациям-гегемонам. «Отсталые нации не достигли еще «дифференциации пролетариата от буржуазных элементов». <…>
Однако в силу их общего угнетенного положения, все они являлись пролетариями по отношению к более «культурным» нациям. При империализме как высшей и последней стадии капитализма колониальные народы превратились во всемирный эквивалент западного рабочего класса»[4].
Итак, если «отсталые» (это расхожее в 20-е годы определение полностью исчезнет из политического обихода в следующее десятилетие) нации наделялись пролетарским статусом, то «восточницы», или «националки», как называли в ту пору восточных женщин, как особо угнетенные представители наций-пролетариев, в один момент превратились в самых пролетарских пролетариев из в принципе возможных[5]. Это различие степени раскрепощения по гендерному признаку прекрасно показано в либретто фильма «Три песни о Ленине» (Д. Вертов, 1934): «Ленин – гигант и любимый Ильич, близкий друг и великий вождь», и «Ленин влил в каждого из нас по капле своей крови» – вот как рисуется образ Ленина раскрепощенным туркмену и узбеку. Вот как он рисуется вдвойне и втройне (курсив мой – прим. А. А.) раскрепощенной женщине Советского Востока»[6]. Таким образом, в новых исторических декорациях прежняя предельная угнетенность оборачивалась залогом нынешней привилегированности.
Партийные идеологи видели в восточной женщине свой потенциальный актив в советском Туркестане, ибо ожидали всецелой поддержки от угнетенной веками рабыни, которой, согласно неодолимой логике классовой борьбы, было нечего терять, кроме своей паранджи. «Женщины-мусульманки занимали центральное место в большевистском анализе среднеазиатского общества в 1920-е гг. и в выработке позиций большевиков по отношению к нему. С точки зрения Москвы, казалось само собой разумеющимся, что такие женщины, находясь под гнетом традиционных мусульманских кодов поведения, согласно которым они должны были носить чадру и сидеть взаперти, представляли собой потенциально главных союзников в деле революции. В 1927 году такой анализ привел московских представителей к тому, чтобы спровоцировать худжум [“нападение”], лобовую атаку на систему затворничества женщин, которое, как надеялись, мобилизует женщин-мусульманок»[7].
Появлявшиеся словно с конвейера тематические фильмы заметно страдали от сюжетной однообразности, что, в сущности, было неизбежно, если учитывать исключительно прагматический характер их выпуска. «Первые фильмы, снятые в Центрально-Азиатском регионе, прежде всего выполняли <…> агитационно-пропагандистские задачи. Самая первая киностудия на советском востоке была создана в Узбекистане, и первая узбекская игровая картина “Вторая жена” была снята в 1927 г. российским режиссером М. Дорониным. Название картины говорит само за себя. Фильм призывал к тому, чтобы женщины покинули ичкари – женскую половину дома – и обрели свободу. В этот же год была поставлена картина “Чадра” реж. М. Авербаха, агитирующая узбекских женщин сбросить паранджу. Аналогичная картина наблюдалась во всех странах региона. Однотипный сюжет кочевал из одного фильма в другой»[8]. Вся потенциальная разница сводилась к тому, умирала ли героиня от рук отца или мужа, непременно натравленного на нее муллой, в неравной схватке за свое освобождение или добивалась его, благодаря чему могла выразить в финале личную признательность советской власти, как это сделала, например, героиня фильма «Мусульманка» (Д. Бассалыго, 1925).
Очень характерны в этом свете слова критика Р. Юренева, написанные по адресу сценария фильма «Айна» (Н. Тихонов, 1931): «Сценарий рассказывал о девочке-туркменке, восстающей против старых законов, унижающих и оскорбляющих женщину. <…> Показывая в своей маленькой героине сильное и всепобеждающее чувство нового, веру в будущее, Смирнова раздвигала рамки довольно трафаретного сюжета, неоднократно уже использованного в среднеазиатской кинематографии. Ей удалось создать развивающийся, типический для советской женщины характер. И это было большим принципиальным достижением для тех лет»[9]. Между тем замечу, что фильм примечателен для нас сразу по двум причинам: во-первых, он считается единственной прижизненной экранизацией прозы А. Платонова, а именно рассказа «Песчаная учительница», во-вторых, для автора сценария М. Смирновой, которой в итоге было поручено доработать либретто самого Платонова, этот опыт стал очевидным прологом к важнейшей работе ее жизни – послевоенному сценарию «Воспитание чувств», на основе которого был поставлен фильм «Сельская учительница» (М. Донской, 1948)[10]. Тем не менее, если характер Айны и был «развивающимся» и «типическим», как о том ответственно заявляет Юренев, он был абсолютно лишен характерных национальных черт. Более того, изначально героиня, как и в рассказе Платонова, была русской, идея сделать ее «националкой» была вынужденной и мотивировалась опережающим выходом в прокат фильма «Одна» (Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1931), с сюжетом которого пересекался исходный замысел «Айны».
Тавтологическое варьирование одной сюжетной схемы, вероятно, оправдывалось увеличением силы внушения от эффекта повторения. Ведь кинофильмы, не знающие литературного образовательного ценза, создавались в том числе с целью индоктринировать непосредственно в сознание восточной женщины определенную модель поведения. В отличие, к примеру, от издававшейся в конце 20-х серии популярных брошюр «Труженица Востока», рассказывающей «про восточных женщин, но не для них» и предназначенной исключительно «для остальной части советского народа, так как основной их функцией было информирование и создание образа»[11], в фильмах этого же периода «восточницы» были не только персонажами, но и основным их адресатом.
Об этом свидетельствует в частности указание из «методички» по работе с фильмом «Ее право» (Г. Черняк, 1931): «Злободневная тема фильмы (сформулированная на титульном листе издания как «Раскрепощение женщины Востока и вовлечение ее в социалистическое строительство» – прим. А. А.) отражает одну из важнейших задач нашего социалистического строительства. <…> Существенное место должен занимать в политокружении вопрос о работе среди женщин-националок, все еще находящихся под влиянием старых законов и обычаев. Особенное внимание этому должно уделяться в наиболее отсталых в культурном отношении республиках (Узбекистан, Таджикистан и т. д.). К работе вокруг фильмы необходимо привлечь, в первую очередь, работников местных секторов труда, жен-организаторов, работников общественного питания и других учреждений, освобождающих женщину от домашнего труда»[12].
Правда, в этом случае стоит сделать оговорку относительно фильма «Ее право», эффектный финал которого позволяет выделить его из ряда стандартизированных лент на ту же тему. Приведу фрагмент синопсиса, опубликованный в той же «методичке»: «Таджи становится во главе женской бригады. Женская бригада вызывает бригаду мужчин на соревнование. Вызов принят. <…> Пример бригады Таджи заражает остальных рабочих. Весь коллектив включается в эту борьбу. На первом месте бригада Таджи. Ее чествуют на общем собрании. Ее снимают для кино. <…> Вечером после работы на полях колхозники идут в кино. Демонстрируется фильма, в которой показаны учеба и работа Таджи. Касым в зрительном зале. Когда на экране появляется Таджи, агитирующая за вовлечение женщин в производство, Касым бросается к экрану и острым кинжалом перерезает горло Таджи. Киномеханик перестает вертеть ручку аппарата. Изображение Таджи застывает на экране»[13]. В целом шаблонный сюжет разбавляется крайне любопытной сценой, где муж «убивает» киноизображение отбившейся от рук жены. Словно в само повествование интегрируется идея особой роли кинематографа в процессе раскрепощения женщин востока. Добавлю, что собравшиеся зрители резко осудили поступок Касыма, после чего он раскаивается и ищет примирения с женой, и в конечном счете находит его возле памятника Ленину в Ташкенте. Этот символический финал тоже имел весьма принципиальное значение: расставание с мужем уже не представлялось непременным условием трудового раскрепощения, как это было в подавляющем большинстве фильмов 20-х.
В середине 30-х, в тот момент, когда среднеазиатские киностудии переживали организационную перестройку и приобретали примерно тот вид, в котором просуществовали до конца советской истории, тема освобождения восточной женщины преодолела географическую локальность и вышла на всесоюзный экран. Случилось это благодаря фильму «Три песни о Ленине» (Д. Вертов, 1934). По словам исследователя жизни и творчества Вертова, Л. Рошаля, «Вертов считал, что самые серьезные, самые наглядные социальные послеоктябрьские перемены на пути к человеческому счастью нашли свое выражение именно в судьбе женщины (особенно женщины Востока), наиболее забитого, темного, бесправного существа в дооктябрьские времена. <…> Была лишь уверенность или, скажем так: вера, при всех трудностях, неустроенности быта, тяжести труда, – в поворот женщины лицом к счастью. Потому-то и ленинский фильм, и следующая картина, и заявки на последующие ленты посвящались женщине»[14]. Для Вертова, чьи эстетические принципы однозначно восходили к авангардным практикам 1920-х годов, обращение к песенному фольклору советского востока, то есть, к архаической устной традиции, максимально дистанцированной от формального новаторства, имело в том числе и своеобразное терапевтическое значение. В это время обострения борьбы с формализмом «фольклор использовался как панацея против модернистских экспериментов, и композиторы-авангардисты посылались в фольклорные экспедиции для собирания народных песен – Арсений Авраамов был отправлен в Кабардино-Балкарию, Александр Мосолов – в Среднюю Азию»[15].
Среднеазиатская этнографическая «ссылка» Вертова полностью встраивается в логику «двух всплесков ленинианы», описанную на примере поэзии историком советской литературы Е. Добренко: «после смерти Ленина в 1924 году появился целый поток стихотворений и поэм на это событие, вызванный вполне искренним переживанием ухода вождя революции. Это были почти исключительно произведения русских поэтов, глубоко и лично причастных революционной эпохе, – от лефовцев Владимира Маяковского и Николая Асеева до пролетарских поэтов Александра Безыменского и Алексея Суркова. Второй всплеск приходится на совсем иную эпоху: начиная с 1934 года, десятилетней годовщины смерти Ленина, появляется огромное количество стихотворных текстов, написанных якобы на смерть Ленина, в основном, поэтами восточных республик либо русских народных сказителей. Многие из этих произведений <…> атрибутируются 1924 годом. Ясно, однако, что эти якобы «посмертные стихи» создавались как своего рода «поэтическое задание» уже в совсем иную, сталинскую, эпоху»[16].
В случае Вертова описанная трансформация работает еще более наглядно, поскольку очевидная «регрессия» дискурсивных режимов не обусловлена сменой авторской инстанции. То есть, в одном случае Маяковский сменяется горным ашугом или степным акыном, в другом – находившийся под сильнейшим влиянием Маяковского автор «Ленинской Киноправды» (Д. Вертов, 1924) спустя десятилетие обрамляет ленинское повествование «аутентичным» фольклорным плачем узбекских девушек по ушедшему вождю и, таким образом, сам же выступает в роли кино-сказителя. Эта добровольная архаизация текста актуализировала тенденцию к сакрализации власти, укреплявшуюся в середине 30-х и невозможную в рамках эстетики «чистого» документализма 1920-х. «Биография Ленина, биография современного профессионального политика, и ассоциированные с ним предметы <…> не давали импульсов воображению для возможной сакрализации. <…> Фольклор Средней Азии, на который опирался Вертов, <…> помог ему провести работу «первичного символизатора», сообщающего сакральный характер конкретным географическим пространствам и предметам повседневного обихода»[17].
Фильм «Три песни о Ленине», как и последовавшая за ним «Колыбельная» (Д. Вертов, 1937), демонстрировал закономерную эволюцию восточной женщины из самой нуждающейся категории жителей СССР в самую благодарную, иными словами, «восточница» становилась носителем идеологически наиболее выгодного восприятия власти. Политическая прагматика фильма не в последнюю очередь связана с предложением зрителю идентифицировать себя с «раскрепощенной женщиной востока» и тем самым взглянуть на советскую власть ее глазами и ощутить благоговение перед ней. На этой коммуникативной работе фильма останавливается культуролог А. Щербенок: «Зритель «Трех песен о Ленине» постепенно вовлекается в зрелище, интернализуя травматическую психическую структуру его персонажей.
<…> Женщинам, снимающим паранджу, открывается свет знания и просвещения. Когда мы в первый раз видим девушку без паранджи, она читает. Сцена разрывается пополам титрами «…но взошел луч правды, луч правды ЛЕНИНА…». <…>Идентифицируя себя с героинями «Песни первой», зритель также может увидеть свет этой правды, т. е. воспринять репрезентируемый мир, с точки зрения эмансипированных женщин, как воплощение победоносных ленинских идей, но он может встать на эту точку зрения только метафорически»[18].
«Три песни о Ленине» как бы естественным образом продолжились в «Колыбельной», только Ленин сменился Сталиным, а собирательный образ восточной женщины биологически (и не в меньшей мере идеологически) эволюционировал из юной девушки в женщину-мать, баюкающую дочь в колыбели. И вместе с тем сменяется заявленный в названии жанр песенно-поэтического фольклора: от изначально предполагающих коллективное и даже ритуальное исполнение песен – к интимно-семейной колыбельной. По мнению современного фольклориста К. Богданова, такая «социализация» жанра колыбельной песни имела идеологическую подоплеку: «Коммуникация колыбельного исполнения является изначально приватной: а сами колыбельные песни – одна из составляющих той сферы эмоционального и дискурсивного воздействия, которая, по мнению социальных психологов, может считаться определяющей для формирования детского характера. Это область первичного «семейного фольклора» или «семейного нарратива». Медиально-публичное пространство радиоэфира, концертного зала и/или кинотеатра делает ту же коммуникацию предельно публичной. «Семейный фольклор» становится в этих случаях общественным, «семейный нарратив» – общенародным»[19]. Неслучайно особая популярность колыбельного жанра, а здесь вместе с фильмом Вертова стоит вспомнить финальные сцены фильмов «Цирк» (Г. Александров, 1938) и «Подкидыш» (Т. Лукашевич, 1939) и, например, появившуюся в том же 1937 году «Колыбельную» казахского акына Дж. Джабаева, связана с тем периодом, когда советский социум все чаще и навязчивее ассоциировался с единой семьей, а Сталин – с отцом в этой семье.
В звуковой период своей истории среднеазиатские киностудии вступали не на рубеже 1920-30-х, как студии в западных странах и европейской части СССР, а накануне 1940-х. К этому моменту среднеазиатский культурный ландшафт приобрел новый, в сравнении с послереволюционным десятилетием, облик, связанный с окончательно формализовавшейся дифференциацией региона по национальному признаку. Теперь абстрактная «восточница» уступала место конкретной туркменке/казашке/ узбечке. В «Трех песнях о Ленине» и «Колыбельной» Вертов еще работал над конструированием собирательного образа «Восточной Женщины» как социально-исторического типа, стараясь с помощью риторических уловок примирить типажную «обезличку» 20-х с нарастающим «культом личностей» 30-х.
«Иногда этот образ “живого человека” собирал в себе черты не одного конкретного человека, а нескольких и даже многих соответственно подобранных людей. Мать, качавшая ребенка в “Колыбельной”, от имени которой как бы идет изложение фильма, превращается по мере развития действия то в испанскую, то в украинскую, то в русскую, то в узбекскую мать. Тем не менее мать в фильме как бы одна. <…> Перед нами не мать, а Мать, не девочка, а Девочка. <…> Понимание этого достигается только непосредственно с экрана. Не человек, а Человек!»[20] – писал Вертов в последней своей статье. Такого рода совокупные портреты представителей определенного сообщества во второй половине 30-х последовательно вытесняются индивидуальными крупными планами отдельных ударников социалистического строительства и производства.
Накануне войны в трех национальных кинематографиях Средней Азии практически синхронно вышли фильмы о знатных стахановках, типологически воспроизводящие сюжетные и идеологические паттерны «Члена правительства» (И. Хейфиц, А. Зархи, 1939) и «Светлого пути» (Г. Александров, 1940). Речь идет о туркменском фильме «Дурсун» (Е. Иванов-Барков, 1940), узбекском – «Асаль» (М. Егоров, Б. Казачков, 1940) и казахском – «Райхан» (М. Левин, 1940). Обращает на себя внимание отсутствие в этом ряду таджикского фильма[21], особенно если вспомнить, что именно образ девочки-таджички превратился в архетип восточной «стахановки». Я имею в виду 12-летнюю рекордсменку по сбору хлопка Мамлакат Нахангову, чье фото со Сталиным после съезда в Москве обошло всю страну и стало наиболее отчетливым визуальным воплощением мифологемы «отца народов».
«Образ Сталина как отца per se был известен с лета 1935 года, когда газеты опубликовали снимок вождя, приветствующего на трибуне мавзолея Ленина вместе с 11-летней пионеркой Ниной Здроговой парад физкультурников. С того момента и до начала Второй мировой войны широкое распространение получили изображения Сталина с маленькими девочками нерусского происхождения – такими, как Геля Маркизова из Бурят-Монголии или Мамлакат Нахангова из Таджикистана. <…> Мало кто с таким успехом укреплял образ Сталина-отца, эксплуатировавшийся в рамках “мифа о великой семье” советских народов, как несовершеннолетние девочки нерусской национальности, поскольку именно их отделяла от “отца” максимальная дистанция: принадлежа к “слабому полу” и будучи родом из “отсталых” республик, они являлись идеальными антиподами Сталина»[22]. Более того, Мамлакат становится явным прообразом Дурсун из одноименного туркменского фильма, повторившей ее ноу-хау в технике сбора хлопка.
Однако задача создания собственного полнометражного звукового фильма о знатной девушке все-таки стояла перед всеми республиканскими студиями центрально-азиатского региона. Мне удалось обнаружить в архиве сценарий Г. Гребнера «Зарагуль», который в свою очередь был переработанной версией сценария таджикского писателя Г. Джимиева «Саломат». Любопытно, что неизменная практика вынесения в название имени главной героини сохраняется в обеих версиях сценария, даже после переименования. Именно этот сценарий, посвященный опять же рекордсменке-хлопкосборщице, имеет в виду режиссер К. Ярматов (перебравшийся после срыва этих съемок из Душанбе на узбекскую киностудию), когда пишет в своих воспоминаниях о неосуществленной постановке фильма «Дочь Памира». Фильм стоял в плане киностудии на 1941 год, но коррективы в утвержденный план внесла начавшаяся война.
В рецепции названных фильмов в советской критике зачастую акцентировался мотив еще одной, внефабульной эмансипации, – производственной автономизации реорганизованных республиканских киностудий. Хотя режиссерами всех трех фильмов были представители русского кинематографа (если бы состоялся фильм Ярматова, стал бы значимым исключением), в связи с «Райхан» и «Асаль» то и дело упоминается о выступивших в качестве сценаристов популярных местных писателях М. Ауэзове и К. Яшене соответственно.
В 1940-е многонациональный состав съемочной группы и особенно присутствие местных кадров становится важнейшим аргументом в поддержку идеологемы о советской дружбе народов. Этот аспект особо выделяет режиссер «Дурсун» Е. Иванов-Барков: «В работе над постановкой фильма “Дурсун”, создававшегося творческим коллективом, в который входили русский кинорежиссер, русская актриса Н. Алисова, туркменские актеры Алты Карлиев, Аман Кульмамедов, два оператора, из которых один был русским, а другой туркменом, словно в капле воды, отражалась великая сталинская дружба народов»[23]. Такая национальная комбинаторика в составах съемочных групп на среднеазиатских студиях сохранится как принцип на протяжении десятилетий.









