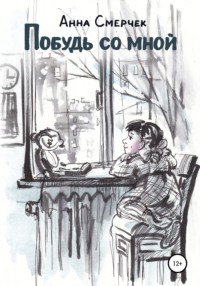Полная версия
Навсегда твой…

Навсегда твой
Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья –
Содержанье письма.
Как красив ее почерк!
Не сказать никому.
Он читает листочек
И не верит ему.
Александр Кушнер
Небо над городом, полное звезд –
Мы так похожи…
Смотрим друг другу в глаза и мороз по коже,
Смотрим друг другу в глаза и по коже мороз.
Всё несерьёзно и всё не всерьёз,
Линия жизни становится строже.
Плачем от счастья, смеёмся до слёз –
Мы так похожи…
Александр Васильев
Что хотела сделать? Забыла. Уже в пальто, в ботинках вернулась в комнату, остановилась на пороге. Что-то собиралась сказать, рот открыла, а слова просыпались, маленькими гулкими шариками проскакали по полу, закатились под диван, пропали в пыльной темноте. И всё, не вспомнить уже, зачем возвращалась. Что-то я сегодня какая-то потерянная.
Вышла из квартиры, спустилась по лестнице, и когда за спиной закрылась дверь парадной, сразу вспомнила, что забыла часы. Я даже знаю, где они остались лежать: под монитором среди учебников и тетрадных листков. Без часов на руке неудобно. Стою, думаю: может, вернуться? А с той стороны, через дорогу, через поток машин парень какой-то смотрит на меня. Кто-то из моих студентов? Да нет, точно нет. Просто, наверное, странно ему: девушка выскочила на улицу, вдруг остановилась и стоит на полуслове. Нет, так не говорят. На полушаге? Ладно, часы есть в мобильном. Возвращаться плохая примета, и опаздывать не люблю.
Ветер подгоняет в спину, сейчас мне предстоит совершить марш-бросок до метро. Вокруг скользят по льду, бегут по своим делам, так же как я, подняв плечи, опустив головы, промокшие и замерзшие пешеходы. Кажется, что у них нет лиц: только низко надвинутые шапки, плотно натянутые капюшоны, высоко поднятые воротники. Мимо ползут машины, нервно гудят: тоже не любят опаздывать. Под ногами вода: целые реки мартовской талой воды с островками льда и асфальта. Сверху тоже вода: пополам с размокшими снежными хлопьями летит в лицо с низких белесых туч. Как там в песне: «У природы нет плохой погоды… тара-тара-там… надо благодарно принимать». Превращаю в речёвку, в такт шагам в ритме марша повторяю про себя: «На-до-бла-го-дар-но-при-ни-мать».
– …мать! – мужчина, идущий впереди, смешно взбрыкивает на льду, чудом не падает. У меня такое чувство, что это последний слог речитатива выскользнул у меня из головы и отскочил по льду прямо ему под ноги. Оборачиваюсь зачем-то. Как будто хочу проверить, не заметил ли кто, что я своими мыслями чуть человека не уронила. И вижу снова на другой стороне улицы, на фоне темной арки проходного двора того парня, который смотрел на меня возле дома. По спине пробегает тревожный холодок. Да нет, это просто мартовская сырость пробралась за воротник пальто. А этому парню просто, наверняка, тоже к метро, в ту же сторону, что и мне.
Глупо было устраиваться на работу так далеко от дома: почти час добираться. Зато работа для филолога неплохая, можно сказать, почти по специальности. Вяло подтягиваются мои студенты, рассаживаются за парты, кабинет почти ощутимо затягивает мутноватая дымка их сонного безразличия. Пять минут до начала пары. Неудобно без часов на руке. Где-то я читала, что человек ничего не забывает и не теряет случайно. Если забыл дома ежедневник – значит, не хотел делать записанные в нём на сегодня дела, если оставил где-то телефон – значит, устал от постоянных звонков.
– Зачем нам английский? – задает мне контрольный вопрос почти на каждом занятии кто-нибудь из семнадцати будущих бухгалтеров. Раньше в моём арсенале были припасены разные ответы:
«Поедете за границу и будете чувствовать себя там уверенно».
«Чтобы быть культурным/современным/разносторонним человеком».
«Для развития памяти».
«Чтобы потом не приглашать ребёнку репетитора по английскому».
«Чтобы понимать, о чём в популярной песне поется».
«Чтобы не купить футболку с дурацкой надписью».
«Чтобы набить татуировку без грамматических ошибок»
Студенты в ответ вяло отстреливались:
«А мы через гугл-переводчик».
«А мы и так культурные».
«А нам не надо понимать».
За полгода пререканий я устала, оставила в обойме один прицельный: «Затем, что этот предмет стоит в программе, а в конце года – экзамен». И всё, наповал. Только вылетевший из ствола дымок задуть. Я не люблю, когда приходится с кем-то воевать: с ветром и льдом на улице, с некоторыми моими студентами в классе. В этой группе таких студентов, с которыми приходится воевать, трое. В прошлом семестре их было четверо, но одного отчислили за неуспеваемость. Остальные ребята, вроде бы, неплохо занимаются, но война с этой троицей выматывает, к концу занятий каждый раз чувствую только опустошенность и усталость.
Сегодня из семнадцати – четырнадцать девушек и трое парней – пришло двенадцать. Двое болеют, трое прогуливают. Не думаю, что по такой погоде они именно прогуливают, скорее просто проспали.
– Open your books please. Page 581.
Студенты мои уныло поскрипывают стульями, медленно переползают со строчки на строчку. За окном метет всё сильнее.
– The role of manager is… – крашеная блондинка Юля старательно ведёт ярким маникюрчиком по строчке, – in our country is2… ой, Ольга Александровна, а у вас телефон звонит.
– Спасибо, Юля, я вижу, – я вижу, что он глухо вибрирует передо мной на столе, требовательно высвечивая «Мама».
– Да вы поговорите, – кивает Алина, – мы вам разрешаем.
– Невежливо не отвечать, вдруг что-то важное, – замечает Юля, переглядываясь с остальными. Шепоточки хитрыми змейками скользят по партам. Не дождетесь, дорогие мои. Я понимаю, что вам очень хочется выкроить из отведенного на английский язык времени хоть пять минут на разговоры, которые не имеют отношения к уроку. Кроме того, я догадываюсь, что стоит ответить на звонок, и Алина на ближайшей перемене побежит доносить завучу, что учитель во время урока говорил по телефону. И завуч Вероника Степановна своим звучным голосом непременно потом в учительской при всех меня за это отчитает. А я буду стоять перед ней и оправдываться, точно я не преподаватель, а сама ещё девчонка, и получила двойку или хулиганила. Поэтому телефон ещё долго вздрагивает передо мной на столе, а я пытаюсь пока не думать о том, какие мамины слова рвутся ко мне с такой срочностью, что не могут подождать оставшиеся до перемены двадцать минут.
– Alina, read the next sentence please3.
– Почему я? Вон Артём ещё не читал! – Алина покачивает ножкой на высоком каблуке в сторону Артёма, который сидит за последней партой. Он положил голову на руки и не реагирует. Мне кажется, он спит. Не перестаю удивляться: как троих мальчишек занесло в этот цветничок? Трое будущих бухгалтеров? Странно, я никогда не видела в бухгалтериях мужчин.
На перемене спускаюсь на первый этаж. Здесь нет учебных аудиторий, и стоя в пустом, гулком холле я перезваниваю маме.
– Оля! Ты почему трубку не берешь? Оля, ты меня слышишь?
Мама сыплет в телефон частыми мокрыми словами. Боже мой, она плачет?
– Оля! Оля! Бабушка Зинаида умерла!
Умерла бабушка Зинаида Георгиевна. Сколько ей было? Кажется, восемьдесят четыре. Бабушка – какое теплое и уютное слово. Запах только что испеченного пирога, постукивание вязальных спиц. Но только всё это не про Зинаиду Георгиевну. Она и слово-то это не очень любила, требовала, чтобы при посторонних я называла её только по имени и отчеству. Никаких «бабушек» с «бабулями» или тем более «баб Зин» на люди выносить было нельзя. Когда мне было лет пять, а может, даже меньше, выговорить такое сложное имя и тем более отчество я не могла. Так из неудачных вариантов моего произношения постепенно Зинаида Георгиевна Зимина превратилась в Зимаиду Оргиевну. На «Зимаиду» мама умилялась, говорила, что это даже поэтично, словно бабушкины седины снегом припорошило, да и с фамилией созвучно. А вот переделанное отчество каждый раз, когда мы её так – за глаза, конечно, – называли, маму очень возмущало. Зинаида Георгиевна ведь её мама. Со временем, правда, она научилась делать вид, что не слышит. Всё понятно, мне бы тоже было неприятно, если бы мою маму называли как-нибудь так.
Переделанное отчество прижилось совсем не случайно. Не знаю, существовал ли на свете такой человек, которому было бы легко с Зимаидой Оргиевной. Она постоянно и остро переживала всё несовершенство этого мира, а своими наблюдениями делилась очень охотно, громко и совершенно бестактно. Она никогда не сомневалась в своей правоте и всегда знала, как должно быть. Только «как должно быть» почти никогда и ни у кого не было. Сколько себя помню, в глазах бабушки я никогда не умела себя вести и всегда выглядела нездоровой. Родители, с её точки зрения, работали не там, где следовало бы, квартиру умудрились обставить совершенно безвкусной мебелью, да и вообще всё у них было неправильно. Сама она жила в коммуналке, уезжать из которой наотрез отказывалась. Соседи и весь коммунальный быт были, конечно же, неисчерпаемой темой для недовольства и возмущения. Я виделась с бабушкой в последний раз, наверное, неделю назад. Она сказала, что носить распущенные волосы неприлично и потребовала, чтобы я сделала какую-нибудь прическу. Напоила чаем с конфетами.
И вот Зинаиды Георгиевны, Зимаиды Оргиевны, не стало. Кстати, до последнего дня она сохраняла ясное сознание и завидную для такого возраста энергию. Иногда только память подводила.
Похороны были через три дня, и снова с неба летели белые мокрые хлопья. Казалось, что кто-то в небесной канцелярии нашел неизрасходованные мешки со снегом и всё вытряхивал и вытряхивал их над городом. Этот кто-то знал, что к следующей зиме срок хранения снега уже истечет, и спешил потратить все снежные запасы до конца марта. Присыпанное снегом кладбище выглядело не таким траурным. Чёрная мокрая земля была прикрыта тонким, но всё-таки белым слоем снега – как будто чёрный кусок хлеба бумажной салфеткой.
На похоронах, кроме родителей и меня, была ещё горстка старушек. Они всё время держались вместе – сказали, что когда-то работали с Зимаидой. Хотя, вообще-то, она давно была на пенсии. Работала она в Лесопилке, то есть в Лесотехнической академии, хотя и не преподавала. Была чем-то вроде делопроизводителя, я не помню точно, как её должность называлась. Но мама всегда говорила, что она «всю жизнь с бумажками возилась». А папа добавлял: «Ну конечно, её к студентам допускать нельзя было! Она бы там всех своими нотациями распугала». Мама даже не сердилась, только плечами пожимала. Теперь она плакала. Старушки молчали, стояли, опустив глаза к земле. Когда всё закончилось, они по очереди стали подходить к нам. Кивали, говорили что-то вежливое, сочувственное и уходили. Удалялись темными силуэтиками по заснеженной кладбищенской дорожке, как будто ветер гнал пожухшие прошлогодние листья.
Глядя им вслед, я заметила на аллее, чуть в стороне одинокую, чем-то знакомую фигуру. Где-то я его уже видела, кого-то этот человек мне напоминал. Наверное, это родственник одной из пришедших на похороны Зимаиды старушек. Привез её на машине, чтобы не трястись ей в трамвае через весь город наедине со своими грустными мыслями.
Потом и мы пошли к выходу. Всю дорогу до дома молчали. Но как только переступили порог квартиры, родители сразу заговорили о делах, как будто отряхнули с воротников и обуви вместе с хлопьями талого снега всю свою грусть. Наследство, вещи, документы – понятные повседневные вопросы, их все, в общем-то, так или иначе, можно было решить. Кроме одного. Неожиданно и странно самой неразрешимой проблемой стал бабушкин кот. Старый, полосатый бабушкин Васька, о котором поначалу мы просто забыли. Проще всего было бы, конечно, привезти его к нам домой. Но отец был категорически против: он всегда терпеть не мог кошек. Поэтому в детстве у меня была собака, что тоже, в общем-то, неплохо. Но вот теперь с бабушкиным котом надо было что-то придумывать: кто-то должен был его кормить и убирать за ним, а найти новых хозяев для старого, совсем обычного полосатика было, наверняка, непросто.
– Неужели никто из соседей не возьмет его? – сердито повторял папа.
– Нет, я уже спрашивала, – устало отмахивалась мама.
– Ну, тогда на работе у себя отдай его кому-нибудь, – он начинал уже заметно раздражаться. – Тоже мне, придумали проблему!
– Я завтра после работы заеду, покормлю его и уберу, – сказала я, потому что ссорится из-за кота в такой день было как-то глупо и неуместно.
От моей работы до Зимаидиной коммуналки всего три остановки на метро, и потом ещё минут десять быстрым шагом. Да, лучше быстрым: по слякоти и наледи, не поднимая головы, спрятав лицо под капюшоном от сырого ветра и колючих брызг то ли дождя, то ли снега. Хотя этот район мне всегда нравился: пара шагов от метро и уже никакой суеты. Кирочная улица выходит не спеша к Таврическому саду. Это сейчас он похож на чёрно-белую гравюру, а скоро зазеленеет, распушится, густая листва пышной пеной будет переливаться через ограду. А дальше респектабельно гудит Суворовский проспект, и где-то тут на маленьком кусочке между ним и садом на одной из улочек – Зимаидина парадная.
Бабушкина коммуналка на предпоследнем этаже. На связке два ключа. Один, светлого металла ключик, открывал всего-навсего входную дверь, украшенную по косяку классической гирляндой кнопок электрических звонков. Второй – огромный, длинный, тяжелый ригельный ключ, больше похожий на холодное оружие – был от Зимаидиной двери. Её комната – самая первая от входа в квартиру. Дальше уводит в глубину темный коридор – там то ли пять, то ли шесть дверей – не самая большая коммуналка, но до конца коридора я, кажется, никогда и не доходила. Бывала раньше только на кухне и в ванной. Кое-как я справилась с тугим замком, юркнула за дверь. Наверное, надо было сначала пройти на кухню, если там кто-нибудь обнаружился бы, то поздороваться, поговорить, объявиться. Есть ведь в коммунальных квартирах какой-то этикет? А может, и нет его. Мне, всю жизнь прожившей в отдельной, это неизвестно. Ладно, я решила дать себе какое-то время. Освоюсь, потом, может, само как-то сложится.

Комната у Зимаиды большая, с высоким потолком. Хотя я тут в последние годы не так часто бывала в гостях, вся обстановка мне до мелочей знакома. Возле двери небольшой холодильник, деревянная тумбочка и полки с посудой. У окна вдоль стены стоит диван, напротив, за шкафом – кровать. Шкаф Зимаида всегда называла шифоньер. Так что за шифоньером. На нем, как и положено, громоздится пара чемоданов. Стол небольшой круглый, застеленный чистой скатертью, три стула по кругу. Застекленный шкафчик: за дверцами блюдца, чашки, бокалы – разрозненная чайно-сервизная дребедень. Ещё одна тумбочка возле дивана. Между старыми рамами цветы в горшках. Всё знакомое, но чужое. И запах в комнате тоже такой узнаваемый, но совершенно чужой. Мой только вид из трехстворчатого окна на стены и крыши домов – на мой повседневный Питер.
Сделалось неловко, как будто я явилась незваной гостьей, без спроса.
Но кто-то же должен.
Я сняла пальто – совершенно мокрое по такой погоде. Не оставлять же его в комнате. Сразу вспомнилось, что Зимаида строго следила, чтобы в верхней одежде и обуви никто в комнату не входил, здесь и вешалки-то не было. Так что пришлось выйти за дверь, где я сразу же встретила кота. Он гордо, как знамя, неся свой хвост, не спеша вышел навстречу из темноты коммунального коридора. Присмотрелся, принюхался, может, даже узнал, стал тереться о ноги, нарезать круги вокруг меня. Из соседней с Зимаидиной двери вышла тётя Рая. Сейчас она в домашнем: в красных спортивных штанах, в резиновых голубых шлепанцах, на голове полотенце. А когда идет на работу её не узнать: волосы тщательно уложены, в ушах золото посверкивает, громко по-хозяйски стучит высокими каблуками по коридору. Встретишь такую королеву на улице и никогда не подумаешь, что она на общей кухне суп варит или ждет по полчаса своей очереди в ванну, намотав, как сейчас, на голову полотенце. Тётя Рая для разгона покивала, расспросила про похороны, потом повела на кухню показать, где там были Зимаидины вещи. Что-то ведь надо будет решать с её мебелью, посудой, прочим скарбом.
Я и без тёти Раи помнила: место у окна, кастрюли и зеленый эмалированный таз на застеленном клетчатой клеенкой столе, безмен на гвоздике висит, чайник, конечно же. А соседка пока расспрашивает как бы невзначай: что с комнатой делать думаете, продадите или сдавать будете? А мы с родителями ещё толком ничего не решили. Рая губы поджала: думает, наверное, что не хочу говорить. Помолчала, потом вдруг оттаяла:
– Или что, думаете, Зинаида этому своему отписать комнату могла? Ну, который всё к ней ходил? Завещание-то было?
– Кто к ней ходил?
Представилось сразу, что какой-нибудь старичок стал в последние годы навещать нашу Оргиевну. Она его чаем поила, под ручку ходила с ним по Таврическому саду гулять. Да нет, бред какой, я даже головой тряхнула. Какой старичок к ней по доброй воле сунулся бы? Разве что какой-нибудь старый пират на одной ноге. Чуть что не так – тресь костылём Зимаиду по голове…
– Ну, этот, молодой. Андрей, кажется, – рассказывала тем временем Рая. – Андрей, точно, Андрей его зовут. Родственник ваш?
– Я спрошу у родителей, – растерялась я.
Рая, видимо, полностью убедилась в моей бестолковости, махнула рукой, ушла к себе.
Я вернулась в комнату, покормила кота, позвонила маме. О молодом человеке по имени Андрей она ничего не знала. С лёгким беспокойством в голосе обещала позвонить в собес, может, они присылали социального работника.
Глупые какие-то хлопоты. Мебель и посуду надо предложить соседям. Одежду отдать в благотворительный фонд. А комнату продать. Интересно только, хранила ли Зимаида какие-нибудь старые фотографии, письма, памятные семейные вещи? Я открыла шкаф, он же шифоньер. Скрипнули створки, сделалось неловко: куда полезла без спросу? Аккуратные стопки белья, выглаженная одежда на полках и на вешалках. Зимаида говорила «отутюженная». Да, всё отутюженное, пахнет нафталином. Где она только его брала? Кажется, он уже и не продаётся нигде. На верхних полках что-то завернуто в газету. Я отогнула краешек: её меховая шапка. Понятно, но неинтересно. Кот запрыгнул на нижнюю полку, пришлось его прогнать и шкаф закрыть.
Кота было жалко, его надо было оставить одного в запертой комнате. Тётя Рая успела нажаловаться: он в коридоре обои рвет, все соседи очень недовольны. Теперь ему, бедняге, придется сидеть до завтра одному. Я взяла кота на руки, села на бабушкин диван. В этой комнате всё бабушкино, каждая вещь её, помнит её руки. Одно из первых моих воспоминаний о Зимаиде – это её руки. Твердые, покрытые маленькими темными пятнышками, вертят меня, жесткие пальцы неприятно ощупывают, словно она из меня бульон собралась варить.
– Кожа да кости, – приговаривает Зинаида Георгиевна. – Кожа да кости. Тебя что, родители совсем не кормят? Оля, ты почему так плохо ешь? Ты что, не понимаешь, что ты должна хорошо питаться, чтобы вырасти здоровой.
И когда мама приходит меня забирать, Зимаида долго ей выговаривает, что она неправильно кормит ребёнка.
Так я и сидела среди чужого никому уже не нужного порядка, рассеянно гладила полосатую спинку задремавшего кота, и всё собиралась встать, одеться, уехать. Уехать – это хорошо сказано. Уезжать надо не просто так, а куда-то, чтобы что-то ещё было написано в конце предложения. Сейчас я вернусь к родителям. И снова не смогу избавиться от чувства, что за те три года, что я провела в Москве с Геной, у них установился новый жизненный порядок. И теперь, когда я снова живу у них, то и я, и они, должны вернуться к старому укладу, играть прежние роли. Как будто влезать в одёжки, из которых мы уже выросли. Наверное, нам нужно было бы попытаться выстроить какие-то новые отношения. Но тут опять-таки Генка всплывает: считается, что у родителей я живу «пока». Пока он не вернется в Питер, или пока я не решу снова жить с ним в Москве. «Пока» – такое маленькое, неприятное слово, которое всё время путается под ногами и не даёт сделать ни шагу.
Можно уехать в нашу с Генкой съёмную квартиру в Москве. Я даже знаю, как это будет. Так точно себе представляю, как будто в кино видела. Он встретит меня на Ленинградском вокзале, чмокнет торопливо в губы, выхватит ручку чемодана. В толпе, в толчее, в шуме, скорее, скорее: тут с парковкой проблемы. Довезет до дома, и начнет оправдываться, что очень – ну, очень торопится, вообще буквально на пол часика отскочил из офиса. Я ведь справлюсь тут пока сама? Точно справлюсь? А ключи не потеряла? Может, уже садясь в машину, обернётся и всё-таки скажет приятное: «Оля, я очень рад, что ты приехала!» Но уже вечером начнёт нудеть, что он так и знал, что он ведь говорил, что целых полгода он оплачивал эту квартиру, которая ему такая большая одному не нужна, а я не приезжала, что неужели я не понимаю… Всё понимаю, Гена, я всё понимаю. В Москве – деньги, карьера, работа. Ну вот, опять я начинаю с ним спорить, так, как будто он рядом, сидит на Зимаидином диване. А даже если бы и сидел, разве он когда-нибудь слышал меня? Я тряхнула головой. Нет, к Генке я не поеду.
Кот поднял голову, посмотрел на меня круглыми желтыми глазами, как будто спрашивал, куда же я тогда собралась уезжать. А может, и правда не надо никуда уезжать. Взять и остаться жить здесь, в этой комнате. В коммуналке – вот этого бы точно Генка не понял. И снова я завела с ним воображаемый разговор, и снова он как будто смотрел на меня с этим ненавистным выражением торопливой скуки на лице. Ему скучно меня слушать, он знает, что всё равно прав. Потому что он всегда прав. От воображаемого разговора с Геной настроение испортилось окончательно. Да что же это такое? Всё время надо на кого-то оглядываться? Вот есть у меня сейчас эти двадцать с чем-то метров с высоким потолком, старой мебелью и окном во двор – и отлично!
Доехав до дома, я уже была уверена, что это именно то, что мне сейчас нужно – пожить немного одной. Перевести дыхание, собраться с мыслями. Родители переглянулись с удивлением, завели долгий разговор. Наконец, мама, которая сначала только отговаривала меня от переезда в коммунальную квартиру, вздохнула, развела руками, извиняющимся тоном сказала:
– Тебе оттуда до работы хотя бы ближе добираться будет.
– В конце концов, если тебе так уж этого хочется, поживи там какое-то время, – разрешил вслед за ней папа и добавил:
– Это будет полезный жизненный опыт для тебя. В смысле освоения коммунального быта. Понюхаешь пороху, так сказать. Да и до нас тут рукой подать, если что.
– Вот поживёшь немного одна, а там, может, уже и с Геночкой решите что-нибудь, – снова вздохнула мама.
Я тоже вздохнула и пошла собирать сумку. Немного самых необходимых вещей, чтобы назавтра после работы уже не возвращаться домой, а сразу поехать в бабушкину комнату с видом на старый вяз и угол дома напротив.
У меня было всего четыре урока, но после них сегодня я чувствовала себя совершенно разбитой. А ведь так хотелось бы, чтобы всё было совсем иначе. Хотелось бы провести занятие, как танец протанцевать: легко кружиться, подхватывать под локоток порхающие по классу английские словечки, улыбаться, кивать. Но получается разгрузка-погрузка булыжников. Нехитрые предложения так тяжело даются некоторым моим студентам, что я почти физически ощущаю их неподъемную тяжесть. Прыгаю у доски, словно массовик-затейник: «Артем, видите тут вопросительный знак? Он такой тяжелый, что в одиночку глаголу не справиться, и мы должны позвать на помощь – кого? – вспомогательный глагол!» Артем хмурит брови, с тоской смотрит в окно. Занятие заканчивается, и я задаюсь вопросом: как можно научить танцевать того, кто даже не хочет подняться со стула?
Когда ещё доучивалась в университете, и весь следующий год я работала в лицее, тоже преподавала английский в старших классах. Моими учениками были ребята примерно того же возраста, что и эти студенты. На этом сходство и заканчивается. На уроках мы работали, просто работали, и мне казалось тогда, что это совершенно нормально, что иначе и не бывает. Я с тоской вспомнила, как даже после звонка, на переменах ребята облепляли мой стол, показывали какие-нибудь забавные ролики из интернета, спрашивали значение того или другого услышанного ими английского слова. После уроков с ними, я летала, как на крыльях. За два года они ни разу не спросили меня, зачем им нужен английский язык. А потом Генка решил делать карьеру в Москве, и мне пришлось уволиться.