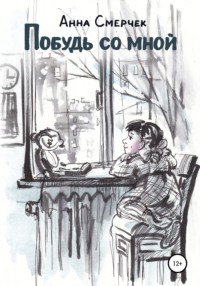Полная версия
Навсегда твой…
От моей работы до Зимаидиного дома, действительно, получается намного ближе, чем до квартиры родителей. Теперь я уже увереннее поворачиваю ключ в замке входной двери. На этот раз в коридоре сталкиваюсь с закутанной в огромный, в розовых розах халат Нинкой. Нинка – может, даже постарше тети Раи, но почему-то она – просто Нинка или Нина, без «тёти» и без отчества.
– Райка сказала, ты тут пока поживешь? – спрашивает. – А потом что думаете? Продавать или сдавать кому?
– Не знаю, пока не решили, – отвечаю, и чувствую, что Нинка не довольна моим ответом. Ну да, им это важно. Появление нового соседа – событие планетарного масштаба в этой вселенной.
Кот обрадовался мне, стал тереться о ноги, урчать. Я вытащила из сумки свои вещи и спохватилась: надо бы придумать что-то на ужин, да и на завтрак. Мама какую-то еду, конечно, положила мне с собой, но переезд можно было бы и отметить. И помянуть Зимаиду.
Я снова влезла в пальто и мокрые ботинки, вышла и огляделась: в какую бы сторону пойти в поисках магазина. На другой стороне маячила мужская фигура, и полупустая улица дохнула на меня легким ветерком беспокойства: показалось, что я узнала его. Три дня назад, в тот день, когда умерла Зимаида, не его ли я видела возле дома? А потом на кладбище, вроде бы, это тоже был он… Или я всё это выдумала? Просто стоит парень и курит? Черты лица на таком расстоянии с моим зрением не разглядеть. Одет так, как почти все в Питере одеваются: джинсы, темная куртка с капюшоном, сумка через плечо. Сразу вспомнилось, как тётя Рая рассказывала про человека, который приходил к Зимаиде. Андрей, точно, Андрей его звали.
Магазин отыскался на соседней улице: тесный супермаркетик в полуподвале – три скользкие ступеньки вниз. Азиатская тетенька пробила мои покупки: кроме обычного набора ещё бутылка вина. Сейчас пойду обратно по другой стороне улицы. И если этот парень, предположим, что его зовут Андрей, стоит там, то я… Я по крайней мере его рассмотрю.
Ни снега, ни дождя сегодня с неба не летело, и даже можно было уже поверить в то, что совсем скоро под весенним солнцем оживут черные деревья на газонах, и можно будет выходить на улицу без шарфа и пальто. Фонари ещё не горели, но на улицу уже начали прокрадываться сумерки. Пешеходы быстро шагали по своим делам мимо привычных им старых петербургских домов, дисциплинированно выстроившихся вдоль тротуара. Теперь уже никто не стоял ни на той, ни на этой стороне улицы. Ну и ладно. Может, я просто выдумала всё это.
Я укрылась в своей – буду теперь считать, что в своей, а не в Зимаидиной – комнате. Если теперь тут живу я, то и правила будут мои. У Зимаиды было очень много запретов и правил, буквально на каждом сантиметре комнаты было что-нибудь нельзя или невежливо, некрасиво или неположено. Вот, например, сидеть на её кровати гостям было нельзя: негигиенично в верхней одежде сидеть там, где человек спит. Так что первым делом я залезла с ногами на кровать – старую металлическую кровать, где под полосатым матрасом прогибалась, поскрипывая, металлическая сетка. Спать на ней было неудобно, поэтому родители и купили бабушке диван. Но она, конечно, продолжала спать на кровати. Потому что это же надо было такое выдумать: каждое утро снимать всё постельное бельё и складывать в ящик, куда с пола пыль летит. Нет, у бабушки на полу была не пыль. Она говорила «сор». И если заходила соседка, то Зимаида потом показательно протирала пол тряпкой, потому что соседка из коридора сору нанесла. Сижу, раскачиваюсь вверх-вниз и вспоминаю, как прыгала на этой кровати, когда была совсем маленькая.
Когда я была маленькая, меня иногда привозили к Зимаиде и оставляли на день или на полдня. Даже ещё когда я училась в начальной школе, она иногда после уроков забирала меня к себе. Я вдруг ясно вспомнила, как мы сидели с бабушкой на её кровати – диван тогда ещё не был куплен – откинулись на подушки, на мне коричневое школьное платье с белым воротником и черным, неудобным фартуком, на ней – синий фланелевый халат с крупными цветами. Бабушка рассказывает мне сказку. Самая её любимая была «Сказка о потерянном времени». Иногда она просто читала её вслух из тоненькой книжки с цветными картинками, но намного интереснее были её вариации на тему шварцевского сюжета. Подпитываясь силой причудливого Зимаидиного воображения, сказка пускала прихотливые побеги. Я узнавала, из какой страны появились у нас в городе злые волшебники, и о других ребятах, которые оказывались втянуты в эту историю. Как и все дети, я любила оставаться в рамках знакомого сюжета, слушать одно и то же по сто раз. Почему-то и несговорчивая почти по любому другому поводу Зимаида, не уставала снова и снова возвращаться к этой истории.
«Жили-были далеко на западе злые волшебники. Они считали себя лучше всех и хотели остальных людей заставить жить по своим правилам. И вот однажды они придумали отбирать у других людей время. Они рассудили, что другим время не нужно, раз уж они всё равно тратят его попусту».
Примерно так чаще всего начиналась эта сказка в вольном Зимаидином изложении.
«С утра до ночи, а точнее с ночи до утра они читали свои волшебные книги. Потому что для того, чтобы учинить безобразие, какое они задумали, им нужно было хорошо подготовиться. В ночной темноте было не видно, что написано в этих книгах, и волшебники вывесили над своей страной ещё одно солнце, которое светило даже ночью. Но только это было не наше тёплое светлое солнышко, это было страшное черное солнце с кривыми короткими лучами».
«А что волшебники делали днём, если по ночам они читали книги?» – спрашивала я. Это был не праздный вопрос. Класса со второго я начала довольно много читать, причем читала «запоями»: если попадалась стоящая книга, я не могла отложить её, пока не доходила до последней строчки. Так я читала весь день, даже на уроках, положив книгу под партой на колени, и полночи, подождав, пока родители потеряют бдительность, и включив фонарик под одеялом. Потом я могла два-три месяца не брать в руки книг – до следующей, которая захватывала меня, не давая спать по ночам. Так что тут я очень сочувствовала злым волшебникам, даже не смотря на то, что они были злые, и представляла себе, как утром они зевают и сонные бродят по своему замку, спотыкаясь на лестницах.
«А днём они устраивали заседания с другими колдунами», – неуверенно сообщала Зимаида. Её повествование не всегда было гладким. Иногда она отвлекалась, сбивалась с мысли, и тогда начинала раздражаться.
«Наверное, у них были какие-нибудь колдовские предметы: волшебные палочки, шапки-невидимки, да?» – подсказываю я.
«Старших перебивать нельзя! – сердится Зимаида. – Слушай внимательно, и всё узнаешь. То же мне, придумала! Волшебные палочки! Это тебе не какая-нибудь сказка для маленьких! У них были настоящие пистолеты, автоматы, танки и самолеты. И везде на своём оружии они рисовали волшебные черные знаки».
Тут я начинала сомневаться:
«Зимаида, ой, Зинаида Геог…риевна, а разве в сказках могут быть пистолеты и автоматы? Это не по-сказочному. Должны быть мечи, щиты, копья».
«Правильно, было у них ещё с древних времен волшебное копье. И колдуны верили, что у кого это копье – тот победит в любом бою. А ещё у них была волшебная чашка, кто из неё выпьет, тот от всех болезней вылечится, все раны на нем заживут».
«А что, разве они собирались воевать? – я чувствовала, что нить повествования всё больше запутывается в бабушкиных руках.
«Ещё как собирались! Только я не могу так рассказывать, когда ты через слово перебиваешь! Тебе что, родители не объясняли, что перебивать старших невежливо! Сколько можно уже: одно и то же, одно и то же! Разве можно быть такой бездельницей? Что ты сидишь? Вот что ты сидишь? У тебя все уроки сделаны? Сказку ей расскажи. Как маленькая прямо. Сколько можно, одно и то же…»
Я росла, Зимаида тоже становилась старше, её сказка делалась всё запутаннее, а в словах бабушки мне уже чаще слышалось почему-то уже не столько раздражение, сколько усталость.
Я слезла с кровати, налила себе вина и подошла к окну. Там качал голыми черными ветками старый вяз, окна перемигивались желтыми глазами с фонарем, поскрипывали детские качели. На них, отталкиваясь ногой от земли, сидела одинокая фигурка. Кто – отсюда не разглядеть.
Утро в коммуналке началось раньше, чем хотелось бы. Соседи ходили по коридору, хлопали дверями, переговаривались, на кухне свистел чайник, у кого-то звонил телефон. А мне всё равно. Есть всё-таки плюсы в профессии преподавателя: расписание составлено так, что мне в колледже нужно быть только четыре раза в неделю. Так что я перевернулась на другой бок и попыталась снова заснуть. Под ногами что-то зашевелилось, я даже испугалась, но потом поняла, что это кот. Вчера он заснул уютным калачом на Зимаидиной кровати, а с утра, видимо, перебрался ко мне на диван.
На кухне солнце играло на квадратиках линолеума, прыгало, как девчонка по клеточкам. Окно приоткрыто, стекло с трещиной через всё утреннее небо показывало хороший весенний денек. На ветке под окном синица громко просила: «Пи-ить! Пи-ить!»
Я поставила слишком большой эмалированный Зимаидин чайник на плиту, и пока он закипал, изучила содержимое теперь уже моего стола. Старая, но чистая посуда, несколько пустых стеклянных банок, увядший букетик полиэтиленовых пакетов, спички и пара запасных электрических лампочек.
За спиной кто-то зашаркал, закашлял. Появился сосед: лысинка, белая майка, пузико наперевес. Это Сергей Михалыч, который со своей женой, Ириной Сергеевной живёт в самом конце коридора. Так сложилось, что теперь он остался единственным мужчиной в этой коммуналке. Это не смущает его, а наоборот, по его мнению, наделяет особыми правами: давать советы, оставлять за собой последнее слово и без очереди ходить в ванную. Сергей Михалыч окинул меня хозяйским взглядом, спросил:
– Райка сказала, ты тут временно поживешь? Что потом планируете? Сдавать будете?
– Мы ещё не решили, – дежурно отвечаю я. Как будто компьютерной мышкой выделила кусочек прошлого, нажала «скопировать», а потом щёлкнула на это утро, и жму: «вставить».
– Только учтите, что если продавать, – назидательно машет в мою сторону пальцем Сергей Михалыч, – то по закону сначала всем соседям нужно предложить, а только потом ещё кому-то на стороне. Учтите, что к нам первым надо обратиться!
– Учтем, – говорю.
Сергей Михалыч снова оглядел меня с ног до головы, вздохнул, и сказал:
– И спички мои не бери.
А я подумала, что нужно купить электрический чайник, чтобы пореже выходить на кухню.
С раскаленным монстром в руке, стараясь не обжечься паром, я проделала обратный путь до комнаты. Только пристроила чайник на столе, в дверь кто-то поскрёб. Открываю – тётя Рая стоит.
– Оля, ты это… – воровато оглядываясь, говорит она, – Тебя Михалыч про комнату спрашивал? Так ты это, если надумаешь продавать, сначала лучше мне скажи. Я выкуплю. А если он – то всё, пропадёт квартира. Он будет комнату азиатам сдавать. Специально, всем нам назло. А сам на дачу уедет жить. А они, ну ты сама понимаешь…
В коридор ещё кто-то вышел, хлопнула дверь, тётя Рая торопливо шмыгнула к себе, в соседнюю комнату.
Я налила себе кофе и, глядя в окно, на умытые солнечным светом дома, улыбающиеся во все свои окна, с кошачьим удовольствием подставляющие крыши весеннему небу, подумала, что с продажей комнаты можно и не спешить.
– Давай посмотрим, что Зимаида хранила в этих своих тумбочках, – предложила я коту после завтрака.
В первой тумбочке, той, что побольше, оказались продуктовые запасы, в основном крупы и консервы. Да, помню, Зимаида как-то отчитывала маму за то, что у неё в холодильнике «шаром покати». Мне в детстве очень нравилось, когда она говорила про этот шар. Я даже попыталась засунуть на полку своей резиновый мяч и покатать его там, но ничего не получилось, только опрокинула и разлила бутылку с молоком.
– Так вот, Васька, зачем ты здесь нужен, – погладила я кота, которому очень нравилась открытая тумбочка. – Крупу от мышей стеречь.
Во второй, маленькой тумбочке обнаружились бумаги. Газеты, журналы, несколько картонных папок. Почему-то больше всего мне хотелось найти именно Зимаидин архив. Наверное, потому, что она запомнилась мне довольно скрытным человеком. О себе говорить не любила, так что скудные разрозненные кусочки бабушкиной биографии я складывала по маминым рассказам, тоже не очень-то разнообразным.
Я знала, что война застала Зимаиду ещё школьницей, и первую блокадную зиму она провела в осажденном Ленинграде. Моя учительница как-то на девятое мая приглашала её в наш класс: выступить со своими воспоминаниями. Зимаида наотрез отказалась и долго возмущалась потом, как такое вообще могло прийти кому-то в голову.
«Нашли артистку, – ворчала она. – Перед пионэрами выступать. Воспоминания мои им понадобились! Видела я, что бывает за такие воспоминания. Нашли дурочку. Вам бы такое пережить, посмотрела бы я на вас. Не дай вам бог такое пережить».
И уходила за хлебом.
После войны Зимаида сразу вышла замуж. Училась, работала, потом, уже в пятьдесят втором родилась моя мама. Когда маме было, кажется, лет пять, её отец, Зимаидин муж, ушел от них. Ещё в детстве я обнаружила, что этот эпизод семейной истории наглухо запечатан, да ещё, похоже, обмотан колючей проволокой. Именно из-за неведомого мне деда произошла одна из самых серьёзных ссор между бабушкой и родителями. Как-то Зимаида, сидя у нас в гостях, объясняла папе, что ему давно пора бы задуматься о карьерном росте.
– Что это за должность такая нелепая в твоем-то возрасте, Саша? – возмущалась Зимаида, – Ну это же просто курам на смех! А у тебя ведь дочь растет. Ты бы хоть иногда подумал о жене, о ребёнке.
– Вот именно, – откликнулся папа, – Лучше уж я время с семьёй проведу. Вы ведь, Зинаида Георгиевна, знаете, что если меня повысят, то я из командировок вылезать не буду. Да вы вон их спросите: хотят они, чтобы меня с утра до позднего вечера дома не было, чтобы я по полгода в командировках пропадал.
– А и ничего страшного бы не случилось, – отмахивалась бабушка.
– Это вы так говорите, потому что вас когда-то муж бросил, и вы Лену одна, без него вырастили, – потерял, наконец, терпение папа.
Зимаида сначала покраснела, потом побледнела и начала кричать, выстреливая словами, словно пулеметными очередями:
– Да как ты можешь судить… Да что ты можешь знать… Он никогда нас не бросал… Да честнее человека на всём белом свете… Он человек кристально честный! Кристально! И ноги моей больше не будет в вашем доме!
Это был единственный раз, когда бабушка при мне заговорила о своем бывшем муже, моем дедушке. После той ссоры Зимаида, действительно, довольно долго не ходила к нам, а я пыталась представить себе своего деда, о котором ни до, ни после ничего не слышала и не видела даже на фотографиях. Поэтому так и рисовала его в своём детском воображении кристальным человеком: составленным из полупрозрачных дымчатых кристаллов, какие мне показывали на экскурсии в минералогическом музее. Потом что-то случалось, и он рассыпался с легким мелодичным звоном и пропадал из нашей жизни. Мама тоже никогда о нём не говорила. Она плохо его помнила, знала только, что он прошел всю войну. Став старше, я предположила, что, вероятно, он мог быть репрессирован. Хотя из семьи он ушел, получается, уже в конце пятидесятых, когда режим не был таким жестким. Спросить Зимаиду я боялась.
Я пересмотрела содержимое тумбы: газеты, квитанции оплаты за комнату, за электричество, какие-то рецепты – кулинарные и медицинские. И наконец-то альбом с фотографиями. Между серых картонных страниц заложены поздравительные открытки, письма. Я аккуратно, чтобы не растерять бабушкин архив, перенесла альбом на стол, открыла. Самые старые снимки на плотном картоне, сделаны явно в фотоателье. Семейный портрет. Женщина – до плеч остриженные кудрявые волосы, причесанные на косой пробор, белая блузка – держит на руках похожую на куклу девочку. За спиной у неё, положив руку ей на плечо, стоит мужчина в широком старомодном пиджаке, коренастый, крупнолицый. Похоже, что кукольная девочка – это маленькая Зимаида. А вот бабушка постарше, тут ей лет семь, она в длинном до колен школьном платье и белом фартуке, в руке тонкий, очевидно пустой пока, новенький портфель. Волосы заплетены в два тощих рогалика и затянуты узкими лентами. Личико торжествующее и нос вздернут очень по-боевому. Провожу пальцем по краю фотографии, обрезанному узорными зубчиками. Смотрю, что есть ещё. Несколько коллективных снимков. Группы незнакомцев на фоне шторы с кистями, на парадном крыльце какого-то здания, там же, но в пальто, а вот на природе, вокруг расстеленной на черно-белой траве скатерти. На каждом из снимков нахожу Зимаиду – молодую и уже постарше.
А вот фотографии каких-то мужчин: может быть, кто-то из них – мой дед. Первый, самый ранний снимок шуточный: трое мальчишек, весело обнявшись, сидят на скамейке во дворе дома, корчат рожи. Вот их уже пятеро в смешных длинных плавках на пляже возле Петропавловки, тут они взрослее. Несколько портретов мужчин в военной форме. Это всё групповые снимки, так что узнать на них деда невозможно. Кроме того, почти все они такие размытые, выгоревшие, что лица с трудом можно отличить одно от другого. И ни одного послевоенного снимка. Ни одной свадебной фотографии.
Потом появляются портреты маленькой мамы. Есть несколько фотографий, на которых я и папа. И все мы вместе с бабушкой, почему-то почти каждый раз за столом, на котором то новогодние салаты, то букеты и торты по случаю дня рождения.
В конце альбома было несколько пустых страниц, и я стала листать теперь в обратную сторону, к началу. И поймала себя на том, что вдруг услышала, как тихо в комнате. Наверное, просто стала вслушиваться в эту тишину. Глупо. Банальная фраза «фотографии могут многое рассказать» меня подвела. Снимки молчат.
Кот запрыгнул на стол, прошел мягкими лапами, стал осторожно обнюхивать бумаги. А вот Зимаида, наверняка, не разрешала ему гулять по скатерти: негигиенично.
Кое-где между плотными листами альбома вложены письма, поздравительные открытки и телеграммы. В основном обычные дежурные фразы о здоровье, о детях, о летнем отдыхе. «Дорогая Зиночка… сердечно… позволь от души… как там наши… напиши обязательно…с наилучшими». В каждом письме от неизвестных мне бабушкиных знакомых упоминаются люди и малозначимые, повседневные события, которые ни о чем не говорят мне.
Между последней страницей альбома и обложкой заложены какие-то рукописные листки, завернутые в полиэтиленовый пакет. Совсем небольшой сверток. Как только я развернула полиэтилен, сразу поняла, почему эти бумаги лежали отдельно: это были письма с фронта. Перебрав истончившиеся на местах сгибов всё ещё, хотя и едва уловимо, пахнущие табаком пожелтевшие листочки, я с разочарованием поняла, что письмо было всего одно. На остальных листках были стихи, тоже, видимо, отправленные когда-то по почте, в конвертах или фронтовыми треугольниками. Знакомое, напевное, сразу зазвучавшее мелодией:
«Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега…
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти – четыре шага».
И незнакомое, в ритме уверенного марша:
«Будем живы – не помрём.
Срок придёт, назад вернёмся,
Что отдали – всё вернём!»
И пронзительное, кажется, это Симонов:
«Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло».
Между листками заложена фотография, совсем маленькая, наверное, два на три сантиметра, отклеенная с какого-то документа. На снимке молодое, почти мальчишеское лицо, особенно ничем не примечательное, коротко остриженные светлые волосы, мягкие черты лица, плотно сжатые губы. А письмо – всего-то один листок, исписанный уверенным ровным почерком, и внизу лихо, смелой линией намечен силуэт городского пейзажа – стрелка Васильевского острова.
Я затаила дыхание, заволновалась, словно Зимаида могла бы войти сейчас в комнату, отобрать у меня листок и отчитать за то, что я взяла альбом без спросу. Почему-то другие чужие письма я пробегала глазами без малейшего зазрения совести, а тут вдруг только что не покраснела.
«Дорогая моя Зиночка,
Ты не представляешь себе, как я был рад получить письмо от тебя! Ты даже не знаешь, как часто я вспоминаю тебя и всех ребят. Как хочется узнать, живы ли. А пишу тебе из госпиталя. Не переживай за меня, это совсем легкое ранение, скоро опять на фронт. Здесь уже совсем тепло, цветет сирень, птицы поют и не верится, что всё это может погибнуть. Мне до сих пор не верится в то, что происходит война, хотя и видел её своими глазами.
Зиночка, когда всё это закончится, я вернусь к тебе в Ленинград, и мы больше никогда не будем расставаться. У вас сейчас уже белые ночи, и я часто вспоминаю, как мы гуляли год назад. Лежу и перед сном кручу у себя в голове, словно киноленту: как шли от нас, с Советского проспекта по всему проспекту 25 Октября, совсем пустому, в ночное время такому непривычно просторному и тихому. Шли, глядя на шпиль Адмиралтейства, как на стрелку компаса. А там можно было повернуть налево, на площадь Воровского. Там, возле собора и вокруг Медного всадника тоже такая чудесная была сирень».
Я перечитала ещё раз последние строчки. Странная какая-то география Петербурга, то есть Ленинграда, конечно. Проспект 25 октября, это получается – Невский? А площадь Воровского – это Исаакиевская? Вроде бы я читала где-то о переименовании улиц после революции, но сейчас эти названия звучат странно и непривычно, как чужие голоса в родном доме. Пришлось признаться себе, что даже не знаю, кто такой был этот Воровский, хотя его имя, оказывается, носила одна из центральных площадей города.
«Вспоминаю всё так ярко, потому что сейчас у меня возле койки стоит в кружке ветка сирени. Для меня это самый ленинградский запах, после запаха корюшки, конечно. Остался я этой весной без корюшки – впервые в жизни. Так что съешь там двойную порцию: за меня и за себя».
Если год назад они вместе гуляли по проспектам, то это была, видимо, предвоенная весна сорок первого. То есть пишет он весной сорок второго. После самой страшной голодной блокадной зимы. Какая там могла быть двойная порция? Получается, что же, он не знал, что в городе происходило?
«А можно свернуть у Адмиралтейства направо, на площадь Урицкого и возле Эрмитажа выйти на набережную. Стоять там, ладонями чувствовать, как нагрелся за день гранит парапета, слушать, как Нева шумит, катит мимо. Стрелку Васильевского острова я мог бы даже с закрытыми глазами нарисовать. Всё это вижу, держу в памяти, не хочу и не буду думать о том, что в моём городе что-то разрушено, разбомблено, сожжено. А ещё я верю, что с тобой всё хорошо. Глаза закрываю и тоже могу тебя увидеть. В том твоем платье, про которое мы спорили лиловое оно или сиреневое. Я теперь хочу согласиться с тобой и тоже называть его сиреневым.
Зиночка, ты обязательно пиши мне. Не унывай, несмотря ни на что. Пиши, как там все. Береги себя, Зиночка! И жди победы! А обо мне не тревожься.
Крепко обнимаю тебя,
Навсегда твой Зимин А.»
Судя по фамилии, это письмо от деда. Что за подпись такая: «Зимин А.» А как его звали? И тут спохватилась: ну и дурочка же я. Мама ведь Елена Андреевна, значит, её отец был Зимин Андрей. Что-то это имя меня преследует. Я ещё раз перечитала письмо и почему-то вдруг заплакала.

Иногда телефон оживает так неожиданно и громко, что я вздрагиваю.
– Оля, привет!
– Привет, Ген.
– Что ты не звонишь? Куда пропала?
– Я же тебе говорила: у меня бабушка умерла. Были похороны. Ну и дела всякие. Знаешь, я тут решила на время переехать в её комнату и пожить немного одна.
– Напомни, пожалуйста, где она жила? – ненавижу, когда он говорит со мной, как с клиенткой, официальными отшлифованными словами.
– В десяти минутах от Чернышевской.
– Так ты теперь у меня невеста с приданым? Однушка в центре – это, знаешь ли, не плохо, – смеётся он новым своим московским смехом, в котором слышится шуршание денежных купюр.
– Нет, Ген, это коммуналка, не отдельная, – оправдываюсь я, и уже чувствую, что зря сказала, надо было не уточнять.
– Коммуналка? Оленька, ну ты что же делаешь! То есть я в Москве такие деньги за хорошую квартиру плачу, а ты – в коммуналке?!
И ещё пять минут причитаний и выговоров по поводу зря потраченных денег, усилий, планов.
– Гена, это временно, – слабо пищу я в трубку, но он уже опять перешел к делу:
– Я собственно звоню сказать, что на следующие выходные приеду в Питер. Так что скоро увидимся. А ты пока подумай, когда тебе удобно будет поехать: сразу или придётся всё-таки доработать до конца учебного года в этом твоём колледже.