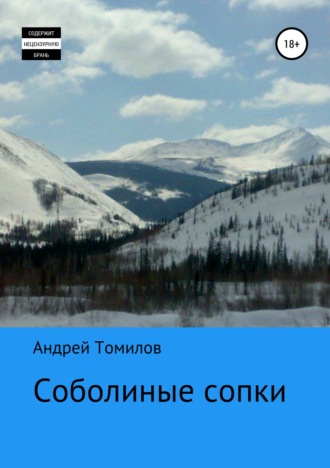
Полная версия
Соболиные сопки
Ветер быстро усилился, поднимая, закруживая и пепел, и пересохшую дорожную пыль, и прошлогоднюю сухую траву, и всякий другой деревенский мусор. Казалось, что деревня очищается от всякой грязи, словно умывается. Или омывается?…
На ногах становилось трудно удержаться. Григорий, придерживая за рукав своего пожилого товарища, стал продвигаться в сторону школы. Ветер неистовствовал и бросался то в одну, то в другую сторону. Когда он налетал навстречу, приходилось просто стоять, глубоко пригнувшись. А когда порывы менялись на противоположные, путники едва успевали переставлять ноги, так быстро их несло по пустой улице.
Когда школа была уже рядом, порывы ветра вдруг ослабели и прекратились совсем. В воздухе ещё кружился взбудораженный пепел, летала жухлая трава, но… вдруг настала тишина. Такая ужасная тишина, что Григорий услышал, что где-то далеко плачет ребёнок. Подумалось, что это на соседней улице.
Терентий Владиславович, не прощаясь, какой-то семенящей походкой обежал школу и скрылся у себя дома. Где-то вдалеке хлопнула калитка и снова всё стихло.
Пытаясь определить, что с тучей, где пожар, или гроза, Григорий вытягивал шею, оглядываясь во все стороны. Вдруг он услышал свист. Будто паровоз, проносящийся на всех парах мимо маленькой станции, сипло свистит, извещая о том, что он едет дальше, что всё у него хорошо, но остановки не будет. Этот сиплый, надрывный свист исходил откуда-то сверху и всё усиливался, всё близился, нарастал. Вместе с этим небесным звуком снова начал подниматься ветер.
Только ветер теперь уж не метался из стороны в сторону, он просто кружил, образовывая сперва малые завихрения, потом больше, ещё больше. И вот уже огромный хоровод вихря раскручивался, раскручивался, набирал силу, выхватывая пучки соломы из крыши и радуясь этому. Но не проходило и минуты, как и сама крыша отделялась от сарая и, рассыпавшись на мелкие детали, уже плавно кружилась в этом круговороте, взбираясь всё выше и выше. От такой круговерти, от надвинувшейся тучи и прихлынувшего дыма сделалось темно, словно глубоким вечером.
Со свистом, который уже нестерпимо резал слух, налетели густые клубы дыма. Только теперь это был совсем свежий дым, ещё горячий, с мелкими светлячками-искрами. И пепел, что кружился в бешеном вихре, тоже был свежий, только с огня.… Не хотелось в это верить, не хотелось, но пепел был горячий, правда с огня.
Обдавало диким жаром заставляя пригибать голову, обхватывать её руками. Казалось, что жар исходил откуда-то с неба, с высоты. Невольно рождались сами собой нелепые мысли о «каре небесной»… А были ли они уж такими нелепыми?
Когда Григорий увидел, как вспыхнули первые сараи, вспыхнули именно с крыши, он утвердился в своих мыслях, что огонь идёт с неба.
Страшные языки пламени взмывали вверх, подхваченные непрерывным вихрем. Потом эти языки начинали пританцовывать, раскачиваться из стороны в сторону и с лёгкостью дотягивались до соседних построек. И те вспыхивали так же азартно, словно только и ждали этого.
Пальцы правой руки невольно, сами собой сжались в щепоть и Григорий даже ткнул этой щепотью себя в лоб, но тут же вспомнил, что совсем недавно его рекомендовали в члены партии. Стыдливо опустил руку, хоть и не поборол желания перекреститься.
А в следующий миг уже полетел по улице, торопливо торкаясь во все стёкла и громко, во весь голос выкрикивая:
– Спасайтесь!!! Спасайтесь!!! К реке! Бегите к реке!!!
… Огненно-дымные вихри, невиданных размеров, устроили бешеную пляску по всей деревне. Со страшными хлопками, словно лопалось от пробоины огромное автомобильное колесо, вспыхивали навесы, сараи, дома. Вспыхивали сразу целиком, охватывались огнём со всех сторон, моментально вознося к самому небу огромный, невиданной силы факел. Люди, кто успевал выскочить из домов на середину улицы, беспорядочно бежали в разные стороны. Бежали в горящих одеждах, охлопывая себя по голове, стараясь затушить волосы, горящие с треском. Кто-то снова падал и начинал извиваться, корчиться, отползать под какое-то укрытие.
Смотреть на это было ужасно больно. Да никто и не смотрел. Паника и вселенский ужас охватили всю деревню, каждого жителя.
Нелепостью в голове застряла мысль, о том, что не успел всех обойти, чтобы предупредить, кто и какой инструмент должен иметь на случай пожара.
Откуда-то с неба со страшным треском и скрежетом упала горящая крыша, рассыпая, раскидывая во все стороны огромные искры и целые головни, покрытые живым пламенем. Григорий отпрянул в сторону от свалившейся рядом крыши и, прикрывая руками голову, невольно глянул наверх, туда, откуда только что свалился этот огромный факел. Ему показалось, что небо полностью покрыто пламенем, сплошным, огромным языком, который с хохотом и плясками вылизывает землю.
Это походило на какой-то бешеный праздник зла, остановить который не под силу простым людям. И не играет ни какой роли кто ты: просто селянин, или даже коммунист, уполномоченный, наделённый высокими правами, или солдат с винтовкой за плечами, – не дано вам такой силы, чтобы справиться со стихией. Даже если ты самый большой начальник НКВД и можешь легко решать судьбы людей, можешь казнить, или миловать, – здесь ты бессилен. Ты просто мелкая букашка, которая слепо ползёт в сторону жаркого костра. Ползет до тех пор, пока не изжарится и не замрёт бездвижно. А костёр, как горел, так и будет гореть, даже не замечая, что рядом, совсем близко, погибло живое существо.
Григорий понял, что он уже не сможет кого-то спасти. Нужно хоть самому попытаться выбраться из этой бешеной пляски смерти. А огненные вихри всё закручивались, всё свистели и завывали совсем рядом, поднимая на воздух всё, что можно было оторвать от земли и вплетались там, на верху, в общий, огромный язык пламени.
Он опять сорвался с места и побежал вдоль объятой пламенем улицы. Понимал, что нужно свернуть в сторону реки, но проулка никак не попадалось, и он бежал, придерживаясь середины дороги, уклоняясь от летящих факелов и длинных языков пламени, внезапно преграждающих путь.
Казалось, что кто-то хохочет, улюлюкает и подгоняет его, радуясь, что загнал человека в ловушку. Рубаха на спине дымилась и хотела вспыхнуть, а волосы трещали так, что этот треск он ощущал кожей. Только не мог понять: волосы уже горят, или только готовятся к этому.
Увидел, что сзади, догоняя, бегут люди, несколько человек. Обрадовался им, как родным, хотел крикнуть, но задохнулся и лишь замычал что-то непонятное.
Среди дороги лежал ребёнок, девочка с опалёнными с одной стороны волосами. Показалось, что она мёртвая, такое синее было личико и пена возле рта. Чуть приостановившись, раздумывал, что делать, заметил, как шевельнулась голова, а может это просто ветром тронуло оставшиеся волосы. Схватил безвольное тело девчушки, схватил неловко, зажал где-то подмышкой, словно какой-то свёрток и побежал дальше. Совсем рядом громко хлопали, воспламеняясь, вспыхивая, словно были облиты бензином, дома, сараи. Даже заборы и прясла горели так дружно, будто их специально перед этим высушили и пропитали керосином, а теперь, с хохотом поджигали.
Наконец, улица закончилась. Вспыхнул и остался позади последний, самый крайний дом. В этот дом Григорий стучался, когда только приехал, чтобы разузнать, где находится школа. Ему тогда объясняли, как проехать к школе трое бойких ребят, видимо учеников этой самой школы. А сзади, скрестив на груди полные руки, молча, стояла моложавая женщина, скорее всего, мать этих ребятишек.
Жар, как будто, отступил. Нет, не отступил совершенно, он просто смягчился. Такое впечатление, что огонь даже растерялся несколько, спалив последний дом и не видя для себя дальнейшей работы. Но тут же спохватился и, с ещё большим ожесточением накинулся на стоящие вдоль дороги деревья. Они раскачивались и закручивались в огненном вихре со страшным скрежетом и шумом. Особенно страшно, с оглушительным треском вспыхивали ели и сосны.
Дышать было совершенно нечем. Огромный язык мешался во рту, не позволял дышать и Григорий вытолкнул его наружу. Девушка, бежавшая рядом и постоянно кричавшая: «Маменька! Маменька!», – вдруг рухнула, раскинув на стороны руки, словно подломленные крылья, с размаха упала прямо лицом на каменистую дорогу.
Григорий подхватил её под руку и поволок дальше. Кто-то подскочил и стал помогать ему. В это время вдруг ожила и заплакала девочка, которую он нёс подмышкой, придерживая одной рукой.
Немало удивившись этому обстоятельству, Григорий прибавил ходу, уклоняясь от летящих мимо горящих пучков травы и стараясь закрыть собой плачущего ребёнка.
Девочка всё громче и громче плакала, её светлые, сбившиеся волосы дымились, видимо в них угодил горящий уголь, но Григорий не видел этого. Он вспомнил, что перед деревней есть ручей, где он поил лошадь. Передав бездвижное тело девушки какому-то селянину, он удобнее перехватил ребёнка и побежал.
Григорию только казалось, что он бежал, на самом деле он едва тащился, тупо переставляя ноги и пытаясь поймать хоть один глоток воздуха распахнутым настежь ртом.
Трое мужиков, мальчишка-подросток и не молодая уже, сухопарая женщина, не отставали. Они или сами вспомнили о том ручье и понимали, что спастись можно только в воде, или просто, беззаветно верили человеку, которого специально прислали сверху. Верили и бежали за ним из последних сил.
Кто же ещё укажет им путь к спасению, если не человек «сверху»? Это же так просто, так естественно и понятно, что там, наверху, всё знают и заботятся о простых людях. Конечно, заботятся. О чём они там ещё могут думать, как не о них, простых людях. Они и живут-то только ради них, ради простых людей.
Далеко сзади медленно плелись двое, придерживая на руках тело девушки.
Труба под дорогой, по которой журчал ручей, была рублена из листвяга. Дорога строилась на века, а значит и мосты, мостики и прочие гидросооружения, тоже строились на века. Лиственница, как известно, в воде не гниёт, а только крепнет от времени.
Огромный небесный язык пламени, раскачиваясь из стороны в сторону, вдруг пригибался и хлестал по дороге, обугливая камни и подгоняя испуганных людей. Обочиной, не обращая внимания на людей, обгоняя их, бежали несколько белок с обгоревшими хвостами.
Едва не теряя сознание, Григорий свернул с дороги к ручью. Задержался, чтобы крикнуть остальным: «Сюда! Сюда!» Но крика не получилось. Язык не хотел вставать на своё место, превратился в какой-то шершавый кусок мяса и не поддавался ни каким усилиям и стараниям. Тогда Григорий махнул несколько раз одеялом, невесть откуда взявшимся в руке, и бросился дальше.
Спасение нужно искать под дорогой. Он кинулся к трубе, в которую втягивался, затекал уже не такой весёлый, как прежде, обезвоженный, но ещё живой, ручей. Уже пригнулся, чтобы занырнуть туда, в эту сырую, спасительную прохладу…. И кинулся назад, едва не выпустив из рук девочку, снова примолкшую, закрывшую глаза.
В трубе стояла на коленях и пригибала лобастую голову лосиха. Как только она поместилась туда? Недаром говорится: «нужда заставит». За лосихой был ещё кто-то, но рассмотреть возможности не было, полумрак скрывал обитателей трубы.
Подбежали и попадали на четвереньки остальные. Лосиха, слезливо оглядывая задохнувшихся людей, стала неловко пятиться. Можно было услышать, как в глубине трубы кто-то ворчит, или рычит, выражая недовольство теснотой.
Она, видимо, просто отодвинулась от людей, но Григорию показалось, что лосиха освободила для них место. Оставаться дольше на открытом месте становилось совсем опасно. Воспламенившиеся лесные остатки, а порой и целые деревья, объятые пламенем, летали мимо, подхваченные этой бешеной пляской.
Григорий пригнулся и, отгораживаясь от лосихи одеялом, подсел к ней, – будь что будет. Придвинулся почти вплотную. Она ещё чуть подвинулась. Сзади снова заворчали. Люди, обжигаемые горячим воздухом, стали заползать в трубу, жались друг к другу. Женщина плакала, обнимая подростка. Пожилой мужчина, зачерпывая грязной ладонью воду, обливал лицо лежащей без признаков жизни девушке.
Присмотревшись, Григорий разглядел за лосихой её телёнка. Он был маленький и совсем рыжий, всё притискивался к матери, всё прижимался. Сразу за лосёнком жались друг к другу два медведя. Один был очень крупный. Это он ворчал, выражая недовольство тем, что лосиха зажимает их.
С противоположной стороны к медведям прижимались косули. Их было много. Они даже лежали друг на друге. А совсем за пределами трубы ещё стояли несколько штук и прятали в трубе только головы. Было видно, как их спины начинают дымиться.
Опустив край одеяла в ручей, Григорий дождался, когда он напитается водой и начал смачивать лицо повисшей на руке девочке. Она вздрогнула, разлепила глаза и стала ловить губами мокрую тряпицу.
Напившись, все успокоились и стали прислушиваться, с каким шумом вспыхивают деревья, как завывает огненный смерч, как он постепенно отодвигается всё дальше и дальше. Пришла в себя и заплакала девушка, прижимаясь к мужчине, который обмывал ей разбитое в кровь лицо.
Кто-то зашевелился под спиной и Григорий, отодвинувшись, обнаружил, что он почти сидел на втиснувшемся к самой стенке барсуке.
Весь день и половину ночи продолжался бешеный шабаш, продолжались ведьмины пляски. Огонь то стихал, то разгорался с новой силой. Пожар, оголив лес, отодвигался совсем далеко, но вдруг возвращался, запаливал уже обугленные деревья, да так охаживал их свежим ветром, что они стоя сгорали дотла, не успевая даже упасть.
Жарко становилось и в трубе. Те косули, что прятали здесь только свои головы, все погибли ещё днём. Медведи ворчали, но вели себя очень даже прилично, терпеливо ожидая окончания невиданного пожара. Лосиха тяжело вздыхала, обдавая своим дыханием сидящего рядом Григория.
Рассвет был тихим. В лесу ещё дымились, догорая, отдельные деревья, потрескивали, рассыпая мелкие искры, приземистые пни, но тишина стояла просто удивительная.
Когда выбрались из трубы и поднялись на дорогу, женщина снова заплакала. Следом заплакал паренёк, а потом и все остальные. Мужики судорожно пытались сдержать слёзы, но это плохо получалось. Даже Григорий смахнул с лица пару слезинок. Объяснить это было сложно. Просто радость людей, радость за то, что смогли спастись, выразилась слезами.
Сквозь синий утренний дым побрели в сторону деревни. Бывшей деревни. Лосиха с телком выбралась из трубы и долго топталась на месте, распрямляя затёкшие ноги. Телёнок не стал ждать, когда мамка сможет нормально двигаться и жадно припал к вымени. Не оторвался от титьки даже тогда, когда мимо медленно прошли медведи.
Люди снова остановились и смотрели на лосиху. Она уже облизывала насытившегося телёнка. Казалось, что она целует его в глаза, в лоб, в уши.
В деревне не уцелело ни одного дома. В реке, на бывшей пристани спаслись чуть более двух десятков человек.
Собрались на берегу, у пастушьего балагана, каким-то чудом уцелевшего. Там же, у балагана, медленно бродила чья-то корова. Она была наполовину обгоревшая и люди даже не могли понять, чья она. А она бродила между людей и даже не кричала.
Григорий оставил девочку на попечение женщин и с несколькими мужиками отправился осматривать пожарища. Картина была настолько удручающая, что у взрослых людей, у мужиков, не выдерживали нервы.
Дома были сгоревшие до самого последнего венца, до основания. Трубы кособочились на почерневших печах, да кое-где догорали поленницы дров, заготовленные впрок на несколько лет. Это какой же силы должен быть жар, чтобы за один день и одну ночь дотла, до последнего брёвнышка спалить целую деревню.
Хозяев находили в самых разных местах и позах. И в кроватях, и в подполе, даже в хлеву, рядом с коровой. Страшно.
Уже на другой день пришли две машины. И никто не сообщал, а они приехали. В кузовах машин сидело по десятку солдатиков. Одна машина, вместе с солдатами, сразу уехала на кладбище. Солдаты выпрыгнули, разобрали лопаты и стали копать большую, квадратную яму.
Из другой машины солдаты тоже выпрыгнули и стали ходить по подворьям, искать погибших. Кого находили, выносили и грузили в кузов. Некоторые погибшие были в крепких объятьях друг с другом. Их не разлепляли, так и укладывали в кузов.
Григорий подошёл к офицеру, представился и предложил помощь. Тот отмахнулся.
– Давайте я хоть записывать стану. Сколько женщин, мужчин, детей…
Офицер внимательно посмотрел на него, положил руку на кобуру с пистолетом:
– Уполномоченный, говоришь. Если ты сам не понимаешь, так на первый раз могу объяснить. Наша партия и родное наше правительство не допустят, чтобы какой-то там лесной пожар мог погубить советских людей. Понял!? – Слова офицер выговаривал кратко и жёстко, словно отрубал каждое, смотрел при этом на уполномоченного вприщур.
Григорий вытаращил на него глаза и даже отступил на шаг. Но офицер ещё придвинулся и даже прихватил двумя пальцами обгоревший рукав. Продолжил:
– А если ещё не понял, могу по-другому объяснить. Это ты был ответственным в этой деревне за ликвидацию пожара. Ты! И если не справился, должен отвечать по всей строгости нашего, советского, закона.
Чуть помолчал, похлопывая длинными пальцами по кобуре. Посмотрел, как солдаты грузят в кузов очередное обугленное тело, полностью сгоревшее со спины, а на груди сохранились даже детали вышивки сарафана. И яркие, яркие цветы…
– Так что, уполномоченный? Как будем докладывать? Погибли люди?
Григорий опустил голову, ещё на шаг отступил. Офицер продолжил:
– Тебе просто повезло, что это не единственная деревня сгорела, что много таких деревень. А так, ты бы точно к нам угодил, на всю оставшуюся жизнь.
Погибших свозили на кладбище и складывали друг на друга в приготовленную яму. Снова привозили и опять складывали. Ещё, ещё…
Другой машиной цепляли за верёвку обгоревших коров и вывозили на край деревни, под сопку. Офицер приказал всем людям собирать головни и обкладывать ими коров. Потом облил всё керосином и поджёг.
– Чтобы эпидемия какая-нибудь не началась.
Сделав запланированную работу, солдатики снова уселись в машины и уехали. Уставшие и голодные, за весь день ничего не ели.
Григорий хотел было попроситься, чтобы добросили до района, но передумал, остался с погорельцами. Кто-то рассказывал, как пузырилась река во время пожара, рассказывал тихонько, словно для самого себя.
Девочка, которую Григорий нашёл на улице во время пожара, снова забралась к нему на руки, пригрелась и тихонько посапывала. Женщины сказали, что её звать Аней. Анечка. Родных закопали в яме.
Григорий помолчал, поправляя обгоревшие волосики, и тихонько прошептал:
– Будет Анной Григорьевной…
Варенье
Мать настойчиво будила меня, а я никак не мог вынырнуть из того сна, в который только что окунулся.
Детский сон очень крепок, особенно после того, как наносишься за день, надуришься с пацанами, не имея за душой никаких забот, не думая ни о каких неотложных делах. Да и вообще, не зная ещё, что есть такие дела, – неотложные.
Трясла меня за плечо.
Наконец, с усилием, продрал глаза. Мать с лампой в руке, встревоженная, озабоченно смотрит на меня, ещё подтыкает, не давая снова завалиться на подушку. Окончательно разбудила.
– Вставай, там ребята пришли, очень тебя просят выйти. Может, что-то случилось.
Напялил штаны, с трудом разобравшись, где зад, а где перёд. Потянул за собой рубаху, – вышел в сени.
На старом диване, – выбросить было жалко, а тут ещё постоит, сидели рядочком, как куры на насесте, пацаны. Мы и расстались-то часа три назад, весь день вместе, – то на озере, то в крапиве, – в «штабе». Вроде простились, разошлись по домам.
– Чё надо? Припёрлись.… Спал уже.
Проскрипел я ещё сонным, надтреснутым голосом. Протирал глаза, но они не хотели разлепляться и голова так и падала, так и падала. Притиснулся с краю, но друзья не собирались рассиживаться, они действительно были чем-то взволнованны, озабочены. Дело, видимо было настолько серьёзное, что откладывать его было нельзя даже и на минуточку.
– Пошли, дело есть.
Все, как по команде встали и направились в темноту ночи.
–Чё за дело-то, я уж спать лёг, может завтра? Ноги вымыл. Потом снова надо будет, – матушка заставит.
– Не, не. Давай быстро, до завтра не достоит.
Кто-то из темноты поддакнул, что действительно не достоит, но со сна я даже не понял кому из друзей принадлежал голос.
Я поплёлся за пацанами, стараясь не упустить из виду мелькающие впереди босые пятки. Пятки мелькали быстро, мне тоже пришлось торопиться, вскоре сон прошёл окончательно.
Пыль деревенской улицы, подёрнутая вечерней росой, не клубилась, а лишь мягко раздавалась под ступнёй, вплеталась между пальцами, щекотала. Голые, заскорузлые участки дороги ещё не простыли, грели ступню, – напоминали дневной, муторный жар. Солнце, последние дни, палило нещадно. Мы не вылезали из озера.
Улица заканчивалась. Впереди открывались нескончаемые заросли крапивы. Где-то дальше, в пшеничных полях, подступающих прямо к колхозному саду, перебивая друг друга, кричали перепела. Я понял, что меня ведут в штаб. Все загадочно молчали. Сырой воздух и ночная прохлада окончательно сбили сон, прихлынула какая-то злость, но её пересиливало любопытство: – Что же такое могло случиться, чтобы меня подняли из постели и среди ночи потащили в штаб? Видимо, что-то важное.
Заросли крапивы были действительно дикими. Если туда забредали коровы, или овцы, – ни одна хозяйка не лезла их искать. Только изжалишься весь, как не сторожись, а найти, всё равно не найдёшь. И росла та крапива высотой в два человеческих роста, а в урожайные годы, когда дождило часто, и ещё выше. Короче, место было бросовое, никчёмное, даже гиблое, можно сказать.
И вот, именно там, в этих глухих зарослях крапивы, мы соорудили себе место, где нас никто из взрослых не беспокоил. Нацепив телогрейки, балахоны всякие, протоптали ходы, известные только нам. Специально устроили обманные ходы и тупики, чтобы не всякий мог правильно выйти к намеченной цели. В центре соорудили нечто, вроде шалаша, или балагана. Тут же устроили место под кострище, окопали его, в целях безопасности. Печёнки там пекли. Небольшая яма, с крышкой из кучи травы, служила погребком. Там хранились кое-какие съестные припасы, хоть бы горбушка хлеба, картошка, кринка простокваши. Даже иногда яички там появлялись, находили их в той же крапиве. Куры часто уходили от хозяек и устраивали себе тайное гнездо, чтобы спокойно высидеть потомство. Правда, яйца долго не хранились, их сдавали в магазин и на вырученную мелочь покупали махорку, а то и вовсе шиковали, – сигареты «Памир», с мужиком в бурке и длинным посохом. Сигареты были, конечно, так себе, но мы фасонили.
Всё вместе это называлось «штабом». Мы любили там собираться, гордились тем, что у нас есть тайна. А если эта тайна объединяет собой несколько человек, то это уже не просто игра, это уже часть жизни.
Ночью, да ещё в одной рубашонке, по проходам в крапиве пробираться было плоховато, но у Коляна был «жучёк», – это фонарик такой. Он жужжал им где-то впереди, пятно бледно-жёлтого цвета металось по зарослям. Мы, торопливо, натыкаясь друг на друга, старались не отстать от этого пятна. Все изжалились, но уже были привычны к этому, – ночь поцарапаешься, и всё пройдёт.
* * *
Дорога, которая шла мимо зарослей крапивы, потом ещё тянулась мимо старого, уже заброшенного кладбища, потом вырывалась на простор и упиралась в детский санаторий. Именно туда она и тянулась, та дорога.
В стороне было лечебное озеро, – Горькое. Потому и санаторий, что озеро лечебное.
Почти каждый день с того озера санаторский конюх возил на огромном санаторском жеребце воду, или лечебную грязь, ужасно вонючую, в огромной, деревянной бочке. Ребятишек в санатории лечилось много, говорят, помогала та грязь.
Работу эту конюх заканчивал до одиннадцати часов. В одиннадцать он торопливо распрягал жеребца, с телеги забирался ему на спину и они привычно отправлялись в сельпо, – там уже начинали давать гамыру. Так деревенские мужики называли любое красное вино. Но с одиннадцати начинали давать не только вино, и водку тоже, в бутылках и в чекушках. Правда, водку покупали редко, на праздник, или к гостям. А гамырку мужики любили. Просто так любили, без праздника. И конюх санаторский тоже, – пристрастился. Мы тоже пробовали, но только чуть-чуть. Она хоть и не дорогая, против водки, но у нас и таких денег не было.
В обратный путь конюх со своим битюгом брели уже неторопливо. Конюх, чаще всего, дремал на широченной спине ярко-красного жеребца. Да тот и сам, замедленно переставляя здоровые копыта по растрескавшейся земле, то приостанавливался, то вновь, неуверенно начинал движение в сторону конюшни, – похоже, что он тоже спал. Спал прямо на ходу. Картина была смешная.
Ежедневно наблюдая эту картину, мы не выдержали. Решили наказать конюха.









