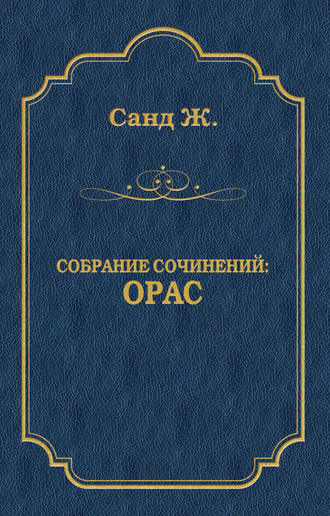
Полная версия
Орас
Арсен то краснел, то бледнел.
– Мои сестры будут уважать вас, – взволнованно воскликнул он, – не то…
– Не надо угроз, – ответила она. – Никогда и никому не надо угрожать из-за меня. Я обезоружу ваших сестер, не сомневайтесь, а если не удастся, – что ж, буду сносить их пренебрежение. Для меня это такие пустяки! Все это кажется мне детской игрой. Будь спокоен, дорогой Арсен. Ты захотел меня спасти – ты действительно спас меня! И я буду благословлять тебя до конца своей жизни.
Упоенный любовью и радостью, Арсен вернулся в кафе Пуассона, а Марта, стараясь не шуметь, пошла занять свое место на узенькой кровати подле обеих сестер, чей мощный храп заглушил ее легкие шаги.
Глава X
Сестры Арсена действительно смягчились. После нескольких дней усталости, удивления и неуверенности они как будто свыклись со своей участью и сблизились с навязанной им подругой. Откровенно говоря, Марта проявляла по отношению к ним услужливость, доходившую до полного подчинения. Приобретенные ею хорошие манеры в сочетании с природной мягкостью и всегда повышенной, но не чрезмерной чувствительностью придавали ее обхождению необычайную прелесть. Не прошло и двух-трех дней, как мы с Эжени прониклись к ней чувством искренней дружбы. Вежливость Марты располагала в ее пользу заносчивую Луизон; и когда та искала ссоры, нежный голос, спокойная речь и предупредительность Марты усмиряли провинциалку или, по крайней мере, сдерживали ее сварливый нрав.
Со своей стороны, мы делали все возможное, чтобы примирить Луизу и Сюзанну с Парижем, так возмутившим их при первом знакомстве. У себя в деревне они воображали, будто Париж – это Эльдорадо, где нищета приблизительно соответствует тому, что в провинции считается богатством. До известной степени мечты их осуществились; катаясь в наемном экипаже (два или три раза я доставлял им это невинное удовольствие), они недоуменно переглядывались и говорили: «Однако нельзя сказать, чтобы мы себя стесняли! Вот в какой карете разъезжаем!» Вид самых захудалых лавчонок приводил их в восхищение. Люксембургский сад показался им волшебным царством. Но хотя новые для них впечатления и развлекли их на несколько дней, это не мешало им с грустью задумываться над своим новым положением, когда они возвращались в крошечную комнатку на шестом этаже, где отныне должна была протекать их жизнь. И впрямь, как не похоже было все здесь на их глухую провинцию! Ни воздуха, ни свободы, ни болтовни у порога с соседками; ни дружбы со всеми обитателями квартала; ни прогулок с местными девушками под каштанами после трудового дня; ни танцев под открытым небом по воскресеньям! Как только они принялись за работу, они увидели, что в Париже день слишком короток для самых необходимых дел, и если здесь и зарабатываешь вдвое больше, чем в провинции, то и тратить приходится вдвое, а работать втрое больше. Каждое такое открытие неприятно поражало их. Они не понимали также, что девичьей добродетели грозит в Париже очень много опасностей и что девушке, если она хочет вести себя благопристойно, нельзя выходить вечером одной или танцевать на общественных балах. «Ах, боже мой, – восклицала озадаченная Сюзанна, – неужели здесь так много плохих людей?»
Но все же они смирились, хотя и не безропотно. Арсен частыми увещаниями держал их в повиновении, и теперь они уже не выражали своего неудовольствия так необузданно, как в первые дни. Соседство двух вечно надутых и не очень-то хорошо воспитанных девиц было бы весьма неприятно, если бы труд – великий целитель всех зол, когда он приведен в соответствие с нашими силами, – не восстанавливал тишины и спокойствия. Благодаря мерам, заранее принятым Эжени, работа нашлась; и, пользуясь уважением и доверием своих заказчиц, она всерьез подумывала об открытии швейной мастерской. Марта не отличалась проворством, но у нее был хороший вкус и изобретательность. Луизон шила быстро и с исключительной прочностью. Сюзанна не лишена была ловкости. Эжени могла бы принимать заказы, примерять и руководить работой; она честно делилась бы с товарками. Каждая, будучи заинтересована в успехе «фаланстера»{41}, работала бы не по обязанности и нехотя, как поденная портниха, а со всем усердием и вниманием, на какое только была способна. Эта блестящая идея очень улыбалась сестрам Арсена; оставалось узнать, может ли Луизон настолько обуздать свой нрав, чтобы такое содружество стало возможным. Привыкнув командовать, она расстраивалась всякий раз, когда видела, что эта бездельница Марта (как она называла ее шепотом, на ухо сестре) придумывала более удачную отделку для рукава или с большим изяществом распределяла складки на корсаже. Когда, верная своим допотопным навыкам, Луиза кроила на собственный вкус, а Эжени неожиданно разрушала ее планы и путала ее замыслы, деревенской красавице стоило немалого труда не швырнуть в нее стулом. Однако ласковое слово Марты или лукавая улыбка Сюзон сразу смягчали ее гнев, и она лишь глухо ворчала, как море после шторма.
Между тем как в наших двух квартирках осуществлялся опыт новой жизни, Орас, запершись у себя в мансарде, отдавался опытам литературным. Едва мне возвратили относительную свободу, я отправился к нему, ибо уже много дней я был лишен его общества. В жилище Ораса я увидел большие перемены. Он убрал свою каморку с некоторой претенциозностью. Он покрыл стол куском сукна, очевидно стараясь придать ему сходство с бюро. Одним из матрацев заложил дверную нишу, чтобы заглушить шумы из соседних комнат, а наброшенная на его плечи ситцевая занавеска должна была изображать халат, или, вернее, театральную мантию. Он сидел за столом, опершись головой на руки, ероша всклокоченные волосы, и, когда я открыл дверь, по меньшей мере, двадцать исписанных листков, подхваченные сквозняком, запорхали вокруг него и опустились со всех сторон, как стая перепуганных птиц.
Я кинулся поднимать и невольно бросил на них нескромный взгляд. На всех листках стояли различные заголовки.
– Роман! – вскричал я. – Называется «Проклятие», глава первая! Но нет, он называется «Новый Рене», глава первая… Э, нет! это «Заблуждение», книга первая. Ах! Теперь совсем другое – «Последний верующий», часть первая… О! Да вот стихи! Поэма, песнь первая – «Конец мира». А, баллада! «Прекрасная дочь короля мавров», строфа первая; а на том листке «Сотворение» – фантастическая драма, сцена первая; а тут еще водевиль… Боже милосердный! «Бродячие философы», акт первый; и, честное слово, еще что-то! Политический памфлет, страница четвертая. Да если всему этому дать ход, ты, дорогой Орас, бурным потоком ввергнешься в литературу.
Орас был взбешен. Обругав меня за любопытство, он вырвал у меня из рук все эти начатые листки, из которых ни один не был заполнен больше чем наполовину, смял их, скомкал и швырнул в камин.
– Как! Из-за шутки отказаться от всех своих грез, всех планов и замыслов? – сказал я.
– Друг мой, если ты пришел сюда развлекаться, – возразил он, – отлично! Будем болтать, смеяться сколько тебе угодно; но если ты собираешься издеваться надо мной раньше, чем моя колесница сдвинулась с места, я никогда не смогу пустить коней вскачь.
– Ухожу, ухожу, – сказал я, надевая снятую было шляпу, – не хочу мешать тебе в минуты вдохновения.
– Нет, нет, останься, – сказал он, удерживая меня силой, – вдохновение сегодня не придет. Я отупел; ты вовремя пришел, чтобы отвлечь меня от самого себя. Я измучен, голова совершенно отказывается работать. Три ночи я не спал и пять дней не был на воздухе.
– Ну что ж, поздравляю тебя с таким усердием. Что-нибудь, наверное, уже получается? Не прочтешь ли?
– Я? Да я ничего не написал. Ни одной строчки не выправил. Оказывается, марать бумагу значительно труднее, чем я предполагал. По правде сказать, это препротивное занятие. Сюжеты одолевают меня. Стоит закрыть глаза, как в голове возникает и приходит в волнение целое полчище, целый мир образов. Стоит открыть их – все исчезает. Я поглощаю кофе пинтами, выкуриваю дюжины трубок, опьяняюсь собственными восторгами; мне кажется, я подобен вулкану перед извержением. Но едва я приближаюсь к этому проклятому столу, как лава застывает и вдохновение гаснет. Пока я готовлю бумагу и чиню перо, меня одолевает скука; запах чернил вызывает во мне тошноту. А потом, эта нудная обязанность излагать словами и записывать какими-то каракулями свои мысли, пылкие, живые, стремительные, как лучи солнца, пробивающиеся сквозь тучи! О, и тут ремесло, даже тут! Куда бежать от ремесла, великий боже! Ремесло преследует меня повсюду!
– Вы, значит, собираетесь, – сказал я ему, – найти такой способ выражения ваших мыслей, который не имел бы осязаемой формы? Мне такой способ неизвестен.
– Нет, – сказал он, – но я хотел бы выражать их сразу же, без усталости, без усилий, как течет вода, как поет соловей.
– Течение воды – результат известного усилия природы, а пение соловья – искусство. Приходилось ли вам слышать, как молодые птицы щебечут неверными голосами и пробуют силы в первой песне? Любое точное выражение идей, чувств и даже инстинкта требует известной подготовки. Неужели вы надеетесь первый же набросок написать с той легкостью и плавностью, что даются лишь долгой работой?
Орас считал, что дело не в отсутствии у него легкости и плавности, а в том, что время, практически затрачиваемое на выписывание букв, сводит на нет все его способности. Он лгал: когда я предложил свои услуги, чтобы стенографировать под его диктовку, пока он будет импровизировать вслух, он отказался, и не без причины. Я знал, что ему ничего не стоит написать очаровательное, остроумное письмо, – но, по-видимому, для того, чтобы какой-нибудь мысли придать форму, хотя бы не очень развернутую и законченную, требовалось много больше труда и терпения. Несомненно, ум Ораса не был бесплоден. Юноша был прав, жалуясь на излишнюю подвижность своих мыслей и избыток зрительных образов, – но он совершенно лишен был дара обрабатывать задуманное и выбирать нужную форму. Он не умел работать; позже я убедился в том, что он не умеет страдать.
Да и не в этом было главное препятствие. Я полагаю, для того чтобы писать, нужно иметь определенное и обоснованное мнение о том, что пишешь, не говоря уже об известном количестве других, не менее определенных мыслей, необходимых для подкрепления своих доводов. Орас не имел твердого мнения о чем бы то ни было. Он импровизировал свои убеждения в ходе разговора, по мере их изложения, и делал это, надо сказать, блестяще; поэтому он нередко менял их, и, слушая его, Мазаччо обычно бормотал сквозь зубы поговорку: семь пятниц на неделе.
Если ограничиваться беседами, можно на свой страх и риск привлекать внимание слушателей и забавлять их, пользуясь таким приемом. Но когда слово приобретает более высокое назначение, надо, пожалуй, точно знать, что ты стремишься рассказать или доказать. Орасу нетрудно было найти доводы в споре; его воззрения, в которые он верил, лишь пока излагал их, не могли взволновать его до глубины души, воспламенить воображение и произвести в нем ту могучую, таинственную и скрытую работу, которая проявляется во вдохновении, как труд циклопов в пламени Этны.
Если нет цельного мировоззрения, то чувства сами по себе могут взволновать нас и даже пробудить наше красноречие; это свойство, присущее молодости. Орас этой способностью еще не обладал; не изведав волнения страстей, не видев их проявления в обществе – одним словом, почерпнув то, что знал, только из книг, он не мог при выборе того или иного рассказа, той или иной картины руководствоваться откровением свыше или благородной необходимостью. Все же, поскольку голова его была полна подсказанными общей культурой вымыслами, которые сулили интересное развитие, как только сам он обогатится жизненным опытом, он считал себя способным творить. Но он не мог полюбить свои экспромты, не затрагивавшие его души и, по правде сказать, порожденные не ею, а лишь работой памяти. Поэтому, в какую бы форму он ни облекал их, им не хватало своеобразия, и он это чувствовал; он был человеком со вкусом, и его самолюбие не было самолюбием глупца. И вот он зачеркивал, рвал, начинал сызнова и в конце концов бросал свое сочинение, чтобы попробовать силы в новом, которое удавалось не лучше.
Не понимая причин своей беспомощности, он ошибочно объяснял ее отвращением к форме. Форма была единственным богатством, которое он мог бы постепенно приобрести с помощью терпения и воли; но никогда она не заменила бы глубины содержания, совершенно ему недоступной, – а без нее литературное произведение с самыми блестящими метафорами, с самыми искусными и чарующими оборотами не имеет никакой цены.
Я часто твердил ему об этом, но убедить его мне не удавалось. Даже после опыта, длившегося более месяца, он все еще упорствовал в своем самообольщении. Орасу казалось, что препятствиями, которые ему предстояло преодолеть, были только кипение крови, горячность молодости, лихорадочное стремление выразить свои чувства. Вместе с тем он признавал, что все его наброски через десять строк или три стиха приобретали разительное сходство с произведениями его любимых авторов, и он краснел, видя, что способен только на подражание. Он показал мне некоторые стихи и фразы, под которыми могло бы стоять имя Ламартина, Виктора Гюго, Поля Курье{42}, Шарля Нодье{43}, Бальзака и даже Беранже{44}, хотя подражать ему особенно трудно из-за его ясной, сжатой манеры. Но эти короткие наброски, которые можно было назвать фрагментами фрагментов, служили бы в произведениях его вдохновителей лишь украшением их собственных, индивидуальных мыслей, а именно индивидуальности у Ораса и не было. Если он излагал какую-нибудь идею, то вас поражал (да и его самого тоже) явный плагиат, ибо эта идея принадлежала вовсе не ему – она принадлежала им; она принадлежала всем. Чтобы сообщить мысли отпечаток собственной индивидуальности, он должен был вынашивать ее в своем сознании, в своем сердце очень глубоко, очень долго, пока с ней не произойдут совершенно особые превращения; ибо ни один ум не бывает тождествен другому и никогда одни и те же причины не вызывают в разных умах одинаковых следствий; поэтому многие мастера могут одновременно стремиться передать одно и то же чувство, разрабатывать один и тот же сюжет, не опасаясь повторить друг друга. Но для того, кто не постиг этого явления, для того, кто сам не наблюдал подобных особенностей, не испытал этого чувства, – ни индивидуальность, ни своеобразие невозможны. Вот почему прошло еще много дней, а Орас продвинулся не дальше, чем в первый час. Необходимо добавить, что при этом он истратил впустую весь небольшой запас воли, накопленный им, чтобы выйти из бездействия. Когда он был окончательно сломлен усталостью, преисполнен отвращения, почти болен, он вышел из своего убежища и снова окунулся в жизнь, ища развлечений и стремясь даже, по его словам, испытать страсть, в надежде хоть ею разбудить свою дремлющую музу.
Его решение испугало меня. Пуститься без всякой цели в это бурное море, не обладая опытом, который предохранил бы от опасности, – значит рисковать большим, чем можно предполагать. Так же, очертя голову, бросился он и в литературу; но там у него не было сообщника, и единственной грозившей ему катастрофой была потеря времени и чернил. Но что станется с ним, бедным слепцом, под водительством слепого бога?
Крушение произошло не так скоро, как я боялся. В пучине страстей гибнет не всякий, кто к этому стремится. По натуре Орас отнюдь не был страстен. Собственная личность выросла в его сознании до таких размеров, что, казалось, ни одно искушение не было достойным его. Чтобы пробудить в нем восторг, нужна была встреча с какими-то высшими существами; а пока он не без основания предпочитал себя самого тем пошлым женщинам, с какими мог завязать отношения. Нечего было бояться, что он подвергнет опасности свое драгоценное здоровье знакомством с уличными проститутками. Он также не был способен унизить свою гордость до того, чтобы умолять тех, кто сдается лишь перед дорогими подарками или другими доказательствами пылкого увлечения, которые оживили бы их угасшее сердце и пресыщенное любопытство. Он испытывал к таким женщинам презрение, доходившее до самой суровой нетерпимости. Он не понимал религиозного и поистине великого смысла «Марион Делорм». Он любил это произведение, но не постигал его глубокой нравственной ценности. Ему нравилось изображать из себя Дидье, но Дидье из одной лишь сцены – той, где любовник Марион, потрясенный своим открытием, осыпает несчастную насмешками и проклятиями; что же до прощения, даруемого в заключительной сцене, Орас утверждал, будто Дидье никогда на него не согласился бы, если б не знал, что через мгновение ему отрубят голову.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
В глубине души (ит.).
2
Безделье (ит.).
3
Для данной цели (лат.).
4
Bousingot – матросская шляпа (фр.).
5
Во-первых (лат.).
6
Во-вторых (лат.).
Комментарии
1
В начале 1841 года Жорж Санд закончила роман «Орас» и послала рукопись редактору журнала «Ревю де дё монд» Бюлозу. Уже достаточно напуганный идеями Жорж Санд, выраженными ею в предыдущем романе «Странствующий подмастерье», Бюлоз потребовал значительных изменений в тексте нового романа. Жорж Санд отказалась выполнить это. «Я ясно вижу, – пишет она, – что вы требуете от меня невозможного… Вы хотите, чтобы я рассказала о буржуазии, не упоминая о том, что она глупа и несправедлива, и об обществе, не говоря о том, что оно абсурдно и безжалостно… Мои герои сражаются на баррикадах улицы Клуатр-Сен-Мерри, и… удивительное дело! – рабочий и студент-республиканец сражаются не за монархию!..»
Письмо Жорж Санд отражает ее взгляды на общественную и политическую жизнь Франции, сложившиеся на грани 30–40-х годов; оно дает отчетливое представление об идейном замысле романа «Орас».
Республиканские восстания 30-х годов заставили Жорж Санд иными глазами взглянуть на народ и его роль в оппозиции различных слоев общества ненавистному ей режиму Луи-Филиппа. Народ, с точки зрения Жорж Санд, стремится лишь к добродетели и праву на человеческое счастье, но именно в этом ему отказывает эгоистическое и жестокое общество. Следовательно, само общество вынуждает народ прибегнуть к оружию. Если права человека он может приобрести «только войною, он будет воевать» (1841).
Борьбу за интересы народа, в которой приняли участие люди, не принадлежащие к низшим слоям общества, Жорж Санд рассматривает как фактор огромного значения, способствующий поступательному движению истории. Именно поэтому она столь горячо откликается на предложение Пьера Леру и Луи Виардо основать совместно новый литературный и политический журнал и так охотно берется за перо публициста. Новый журнал, названный, по предложению Жорж Санд, «Ревю эндепандант», сыграл значительную роль в истории демократической печати 40-х годов. В первых трех номерах этого журнала был опубликован роман «Орас».
Эпоха, изображенная Жорж Санд в ее новом произведении, точно определена: весна 1831 года – весна 1833 года. Основным историческим событием и одновременно кульминацией в развитии действия романа является республиканское восстание 1832 года и баррикадные бои на улице Клуатр-Сен-Мерри. В романе упоминаются исторические лица – такие, как Годфруа Кавеньяк, член республиканского тайного «Общества друзей народа», и другие, говорится о писателях, художниках, театральных постановках. Все это свидетельствует о том, что Жорж Санд стремилась поместить своих героев в конкретную историческую обстановку и сделать их участниками исторических событий во Франции начала 30-х годов.
Говоря в своем посвящении Шарлю Дюверне о главном герое романа – Орасе, Жорж Санд подчеркивает, что целью ее было дать сатирическое изображение порока, распространенного в современном обществе, – то есть себялюбия. В предисловии к роману, написанному в 1852 году, Жорж Санд возвращается к этой мысли и пишет о том, что она противопоставляет первому герою, обладавшему незаурядным себялюбием (то есть Орасу), «второго героя, наделенного безграничной самоотверженностью» (то есть Поля Арсена). Проблема себялюбия Ораса углубляется в романе благодаря тому, что Жорж Санд делает своего героя не носителем некоего общечеловеческого порока, а олицетворением буржуазного индивидуализма. Она проводит его через многочисленные испытания как в среде подлинных тружеников, так и в светском обществе, где Орас с его непомерным честолюбием не приобрел ничего, кроме эфемерного успеха. Но, судя по иронической концовке романа, он извлек практический урок из своего опыта. Из сомнительного романтика он легко превратился в явного честолюбца, из молодого человека, щеголяющего своими передовыми идеями, – в карьериста, ими спекулирующего.
Замкнутой среде людей высшего общества Жорж Санд противопоставляет круг людей, объединенных не столько своим происхождением, сколько нуждой, трудом, социальными устремлениями. Именно среди них она находит тех, кто способен осуществить нравственный и социальный прогресс. Теофиль, молодой врач, от лица которого идет повествование, в силу своего человеколюбия, ума и культуры пришел к демократическим убеждениям. Немалую роль в этом сыграл его отец, граф де Монт, внушавший своему сыну мысль о том, что «Франция движется вперед к осуществлению демократических идеалов». Ни Теофиль, ни его умная и добрая подруга Эжени не разделяли революционных убеждений своих друзей, но они не могли не признать справедливой их борьбу. Не менее интересна фигура студента Ларавиньера. В шумной беседе, остроумной перебранке, случайной или не случайной драке он испытывает свои силы, не растрачивая их, в ожидании смертельной схватки с врагами французского народа. Наиболее значительной фигурой среди этой группы действующих лиц является Поль Арсен. Наделяя Арсена самоотверженной любовью к обездоленным, Жорж Санд делает его суровым и беспощадным борцом против социальной несправедливости и тех, кто ее защищает. Участник Июльской революции, Поль Арсен мужественно сражается и на баррикадах 1832 года. В его образе Жорж Санд показывает одного из тех пролетариев, которые после кровавой драмы республиканских восстаний начала 30-х годов не отошли от мысли о новой революции, а, напротив, утвердились в ней.
В России роман «Орас» вызвал ряд интереснейших откликов. Герцен увидел в нем «великое произведение, вполне художественное и глубокое по значению». Белинский подчеркивает, что под пером французской писательницы роман «сделался социальным». Чернышевский пишет о Жорж Санд как об одном из тех писателей, чьи произведения «внушены идеями гуманности и улучшения человеческой жизни». Салтыков-Щедрин, говоря о романах «Орас» и «Лукреция Флориани», утверждает, что в них «подавляющий реализм идет рука об руку с самой горячею и страстною идейностью».
2
Дюверне Шарль (1807–1874) – писатель, друг Жорж Санд.
3
Нынешние маркизы уже не смешны. – В комедии «Версальский экспромт» Мольер заявил: «Нынче маркиз – самое смешное лицо в комедии» и в своих произведениях вывел ряд маркизов, достойных осмеяния. Новая эпоха, согласно Жорж Санд, требует сатирического изображения буржуазного общества.
4
…принадлежность к Латинскому кварталу… – то есть к студенчеству. В Латинском квартале находится Парижский университет – Сорбонна и другие высшие учебные заведения.
5
…смешон на Гентском бульваре… – Итальянский бульвар, место прогулок аристократической публики, издавна считался законодателем моды. Во время Реставрации этот бульвар часто называли Гентским, в память пребывания Людовика XVIII в Генте во время Ста дней.
6
Одеон – театр, расположенный недалеко от Люксембургского сада, часто посещался студенческой молодежью.
7
…возрастной ценз… – Согласно конституции 1814 г., право быть избранным в палату депутатов имели лица, достигшие сорока лет и обладавшие высоким имущественным цензом.
8
Дантон Жорж-Жак (1759–1794) – выдающийся деятель Французской революции, член Комитета общественного спасения. Казнен в период якобинской диктатуры.












