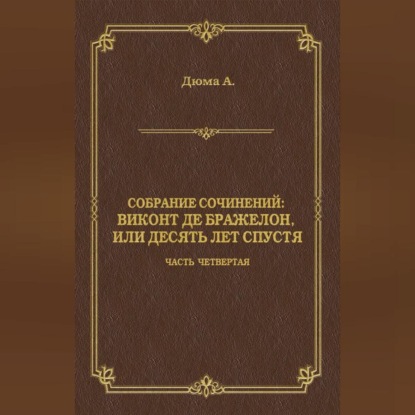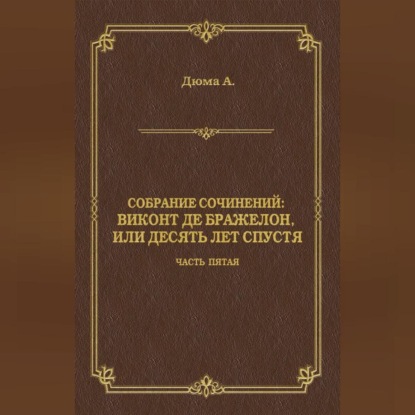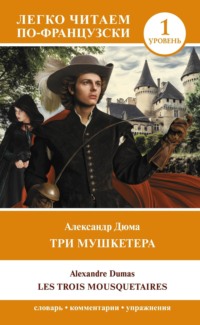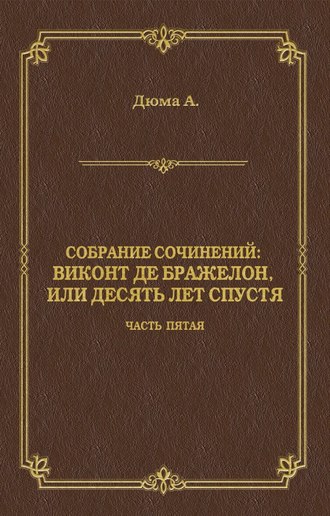
Полная версия
Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. Часть пятая
– Опасная бумага? Какая?
– У меня есть только одна, но она действительно очень опасная.
– О, герцогиня, скажите, скажите же мне, что это такое?
– Это записка… от второго августа тысяча шестьсот сорок четвертого года, в которой вы просили меня поехать в Нуази-ле-Сек навестить вашего милого несчастного ребенка. Вашей рукой там так и написано: «милого несчастного ребенка».
Наступила глубокая тишина. Королева мысленно измеряла глубину пропасти, госпожа де Шеврез расставляла свои сети.
– Да, несчастный, очень несчастный! – прошептала Анна Австрийская. – Какую печальную жизнь прожил этот бедный ребенок и какой ужасный конец был уготован ему.
– Он умер? – живо воскликнула герцогиня, и ее удивление показалось королеве искренним.
– Умер от чахотки, умер забытый, увял, как цветок.
– Умер! – повторила герцогиня печальным тоном, который очень бы обрадовал королеву, если бы в нем не слышалось нотки сомнения. – Умер в Нуази-ле-Сек?
– Да, на руках у своего гувернера, бедного несчастного слуги, который не намного пережил его.
– Это понятно: нелегко вынести такую печаль и такую тайну.
Королева не удостоила заметить иронию этих слов. Госпожа де Шеврез продолжала:
– Несколько лет тому назад я справлялась в самом Нуази-ле-Сек о судьбе этого столь несчастного ребенка. Его не считали умершим, вот почему я сначала не опечалилась вместе с вашим величеством. О, разумеется, если б я поверила, никогда никакой намек на это прискорбное событие не разбудил бы законнейшую печаль вашего величества.
– Вы говорите, что в Нуази-ле-Сек ребенка не считали умершим?
– Нет, ваше величество.
– Что же говорили?
– Говорили… Конечно, ошибались… заблуждались…
– Все же скажите.
– Говорили, что однажды вечером, в начале тысяча шестьсот сорок пятого года, прекрасная и величественная женщина (что было замечено, несмотря на маску и плащ, которые скрывали ее), знатная дама, очень знатная, без сомнения, приехала на перекресток дорог, тот самый, на котором я ждала вестей о молодом принце, когда ваше величество благоволили меня посылать туда.
– И?..
– И гувернер привел ребенка к этой даме.
– Дальше!
– На следующий день гувернер и ребенок уехали из местечка.
– Видите ли, в этом есть правда, так как бедный ребенок умер внезапно, что часто случается с детьми до семи лет. По словам врачей, жизнь их до этого возраста висит на волоске.
– То, что говорит ваше величество, – истина; никто не знает этого лучше, чем вы, никто этому не верит так сильно, как я. Но тут есть одна странность…
«Что еще?» – подумала королева.
– Лицо, сообщившее мне эти подробности, лицо, ездившее справляться о здоровье ребенка…
– Вы кому-нибудь доверили эту заботу? О, герцогиня!
– Некто немой, как ваше величество, немой, как я; предположим, что это была я сама. Это лицо, проезжая через некоторое время в Турень…
– В Турень?
– Узнало гувернера и ребенка… простите, ему показалось, что оно узнало. Оба были живы, веселы и счастливы, оба цвели, один бодрой старостью, другой нежной юностью. Судите сами после этого, можно ли доверять слухам? Можно ли после этого верить чему бы то ни было на свете? Но я утомляю ваше величество. О, я совсем этого не хотела, и я сейчас же уйду, только еще раз выразив мою почтительную преданность вашему величеству.
– Подождите, герцогиня. Поговорим о вас.
– Обо мне? Ваше величество, не опускайте так низко ваш взгляд.
– Почему же? Разве вы не стариннейшая моя подруга… Разве вы сердитесь на меня, герцогиня?
– Я? Боже мой, по какому поводу? Разве я пришла бы к вашему величеству, если б у меня была причина сердиться на вас?
– Герцогиня, годы надвигаются на нас; нам надо теснее сплотиться против грозящей смерти.
– Ваше величество, вы меня осыпаете милостями, говоря такие ласковые слова.
– Никто так никогда не любил меня, никто так не служил мне, как вы, герцогиня.
– Ваше величество помнит об этом?
– Всегда… Герцогиня, дайте мне доказательство дружбы.
– Все мое существо принадлежит вашему величеству!
– Попросите у меня что-нибудь.
– Попросить?
– О, я знаю, что у вас самая бескорыстная, самая высокая, самая царственная душа.
– Не слишком хвалите меня, ваше величество, – сказала обеспокоенная герцогиня.
– Я никогда не смогу вас похвалить достаточно по вашим заслугам.
– От возраста, от несчастий очень меняешься, ваше величество.
– Да услышит вас Бог, герцогиня! Прежняя герцогиня, красивая, гордая, любимая Шеврез, ответила бы мне неблагодарно: «Мне ничего не нужно от вас». Да будут же благословенны несчастья, если они вас изменили, и вы теперь, быть может, ответите мне: «Принимаю».
Взгляд и улыбка герцогини стали мягче. Она была очарована своей любимой королевой и не скрывала этого.
– Говорите, дорогая, – продолжала королева, – чего вы желаете?
– Мне надо сказать?
– Не раздумывая.
– Ваше величество может принести мне несказанную радость, несравненную радость.
– Ну, говорите же, – сказала королева, слегка охладев от беспокойства. – Только, моя добрая Шеврез, помните, что я теперь во власти сына, как была прежде во власти мужа.
– Я буду скромна, дорогая королева.
– Называйте меня Анной, как прежде, это будет сладким напоминанием о прекрасной юности.
– Хорошо. Итак, моя милая госпожа, моя милая Анна…
– Ты еще помнишь испанский язык?
– Конечно.
– Скажи мне твою просьбу по-испански.
– Вот она: окажи мне честь и приезжай на несколько дней ко мне в Дампьер.
– Это все? – воскликнула пораженная королева.
– Все.
– Только всего?
– Боже мой, разве вы не видите, что я прошу у вас громадного благодеяния? Если вы так не думаете, значит, вы не знаете меня. Принимаете ли вы мое приглашение?
– Да, от всего сердца.
– О, благодарю вас!
– И я буду счастлива, – продолжала недоверчиво королева, – если мое присутствие будет вам чем-нибудь полезно.
– Полезно! – засмеялась герцогиня. – О нет! Приятно, сладко, радостно, да, тысячу раз да! Значит, вы обещаете?
– Клянусь вам.
Герцогиня схватила прекрасную руку королевы и покрыла ее поцелуями.
«Она, в сущности, добрая женщина, – подумала королева, – и… великодушная».
– Ваше величество, – продолжала герцогиня, – даете ли вы мне две недели?
– Конечно. Но для чего они вам?
– Потому что, зная, что я в немилости, никто не хотел дать мне в долг сто тысяч экю, которые мне нужны, чтобы привести в порядок Дампьер. Но теперь, когда станет известно, что я собираюсь принять ваше величество, все парижские капиталы потекут ко мне рекой.
– А, – сказала королева, кивнув головой, – сто тысяч экю! Нужно сто тысяч экю, чтоб поправить Дампьер?
– Да, почти сто тысяч.
– И никто не хочет одолжить их вам?
– Никто.
– Я их одолжу вам, если хотите, герцогиня.
– О, я не посмею.
– Напрасно, герцогиня.
– Правда?
– Честное слово королевы. Сто тысяч экю – это, право, не так много.
– В самом деле?
– Я знаю, что вы никогда не продавали ваше молчание за цену, которую оно стоило. Подвиньте мне этот стол, герцогиня, я напишу вам чек для Кольбера; нет, лучше для Фуке, который гораздо более воспитанный человек.
– А он заплатит?
– Если он не заплатит, заплачу я. Но это был бы первый случай, когда он отказал бы мне.
Королева написала записку, вручила ее герцогине и, весело поцеловав, отпустила ее.
V
Как Жан де Лафонтен написал свою первую басню
По исчерпании всех этих интриг человеческий ум, столь разнообразный в своих проявлениях, мог удобнее развернуться в трех последующих главах, которые мы ему предоставили в нашем повествовании.
Быть может, будет еще речь о политике и интригах в картине, которую мы собираемся писать, но ее пружины будут так скрыты, что читатель увидит только цветы и краски, совсем как в ярмарочных театрах, когда появляется на сцене великан, приводимый в движение маленькими ножками и слабыми ручками ребенка, спрятанного в его остове.
Мы возвращаемся в Сен-Манде, где суперинтендант, по своему обыкновению, принимает избранное эпикурейское общество.
С некоторых пор хозяин переживает тяжелые дни. Каждый приходящий к нему в дом ощущает затруднения, легшие на плечи министра. Нет уж больших и веселых собраний. Финансы – вот предлог, который приводит Фуке, и никогда, как остроумно говорил Гурвиль, предлог не был более обманчивым – тут вообще нет финансов.
Господин Ватель пытается поддержать репутацию дома. Между тем садовники и огородники, которые поставляли на кухню продукты, жалуются на разоряющую их задержку выплаты; экспедиторы, снабжавшие дом испанскими винами, часто посылают счета, которые никто не оплачивает. Нормандские рыбаки, нанятые суперинтендантом, вычисляют, что, если б они были оплачены, эти деньги дали бы им возможность бросить рыбную ловлю.
Однако друзья господина Фуке появляются в приемный день даже в большем количестве. Гурвиль и аббат Фуке говорят о финансах, то есть аббат берет у Гурвиля несколько пистолей в долг. Пелиссон, сидя нога на ногу, дописывает заключение речи, которой Фуке должен открывать парламент. И эта речь – шедевр, потому что Пелиссон сочиняет ее для друга, то есть уснащает ее всем тем, чем не украсил бы для самого себя. Вскоре появляются из глубины сада Лоре и Лафонтен, споря по поводу легких рифм.
Художники и музыканты направляются к столовой. Когда пробьет восемь часов, сядут ужинать. Суперинтендант никогда не заставляет ждать. Сейчас половина восьмого. Аппетит разыгрывается все сильней.
Когда все гости наконец собрались, Гурвиль направляется к Пелиссону, отрывает его от мечтаний и, закрыв все двери, выводит на середину гостиной и спрашивает:
– Ну, что нового?
Пелиссон внимательно смотрит на него и говорит:
– Я взял в долг у своей тетки двадцать пять тысяч ливров – вот они.
– Хорошо, – отвечает Гурвиль, – теперь не хватает только ста семидесяти пяти тысяч ливров для первого взноса.
– Какого взноса? – спросил Лафонтен.
– Вот так рассеянность! – сказал Гурвиль. – Как! Ведь вы же сами сказали мне о маленьком имении в Корбейле, которое должно быть продано одним из кредиторов господина Фуке; вы же и предложили складчину всем друзьям Эпикура; и вы говорили, что продадите часть вашего имения в Шато-Тьери, чтобы внести свою долю, а сейчас вы спрашиваете: «Какого взноса?»
Раздался дружный смех, и Лафонтен покраснел.
– Простите, простите, – сказал он, – это верно, я не забыл. О нет! Только…
– Только ты не помнил, – заметил Лоре.
– Вот истина. Он совершенно прав. Забыть и не помнить – это большая разница.
– А вы принесли вашу лепту, – спросил Пелиссон, – деньги за проданный кусок земли?
– Проданный? Нет.
– Вы не продали свое поле? – спросил удивленный Гурвиль, знавший бескорыстие поэта.
– Моя жена не захотела, – отвечал тот.
Раздался новый взрыв смеха.
– Ведь вы же для этого ездили в Шато-Тьери!
– Да, и даже верхом.
– Бедный Жан!
– Я загнал восемь лошадей. Я изнемог.
– Несчастный!.. А вы там отдохнули?
– Отдохнул? Ничего себе отдых! Там у меня была работа.
– Как так?
– Моя жена кокетничала с тем, кому я собирался продавать землю. Этот человек отказался. Я его вызвал на дуэль.
– Очень хорошо! И вы дрались?
– По-видимому, нет.
– Вы этого точно не знаете?
– Нет, вмешались моя жена и ее родственники. В течение четверти часа я держал шпагу в руке, но я не был ранен.
– А противник?
– Противник тоже нет. Он не явился на место дуэли.
– Замечательно! – воскликнули со всех сторон. – Вы, должно быть, гневались?
– Очень! К тому же я простудился, а когда вернулся домой, жена стала ругать меня.
– Всерьез?
– Всерьез! Она швырнула мне в голову хлеб, большой хлеб.
– А вы?
– А я? Я швырнул в нее и в ее гостей все, что стояло на столе; потом вскочил на коня и приехал сюда.
Нельзя было оставаться серьезным, слушая эту комическую героику. Когда ураган смеха немного стих, Лафонтена спросили:
– Это все, что вы с собой привезли?
– О нет! Мне пришла в голову превосходная мысль.
– Скажите же ее.
– Замечали ли вы, что во Франции пишется много весьма игривых стихов?
– Ну да.
– И что их мало печатают?
– Законы очень суровы, это верно.
– И вот я подумал, что редкий товар дорог. Вот почему я начал писать одно очень вольное стихотворение.
– О, о, милый поэт!
– Очень неприличное, крайне циничное.
– Черт возьми!
– Я вставил в него все неприличные слова, которые знаю, – невозмутимо продолжал поэт.
Все захохотали, слушая разглагольствования Лафонтена.
– И я старался превзойти все, что писали в этом роде Боккаччо[8], Аретино[9] и другие мастера.
– Боже мой! – воскликнул Пелиссон. – Да он будет проклят!
– Вы думаете? – спросил наивно Лафонтен. – Клянусь вам, что я это делал не для себя, а для господина Фуке. Я продал первое издание этого произведения за восемьсот ливров! – воскликнул он, потирая руки. – Благочестивые книги покупаются вполовину дешевле.
– Лучше было бы, – сказал смеясь Гурвиль, – написать две благочестивые книги.
– Это слишком длинно и недостаточно весело, – спокойно ответил Лафонтен. – Вот здесь, в этом мешочке, восемьсот ливров.
И он положил свой дар в руки казначея эпикурейцев.
Потом Лоре дал сто пятьдесят ливров, остальные тоже дали, что могли. Когда подсчитали, в мешке было сорок тысяч ливров.
Еще был слышен звон монет, когда суперинтендант вошел или, вернее, проскользнул в залу. Он все слышал. И этот человек, который ворочал миллиардами, этот богач, познавший все удовольствия и все почести, это громадное сердце, этот плодотворный мозг, который заключал в себе материальную и духовную сущность первого в мире королевства, Фуке появился на пороге со слезами на глазах, погрузил в золото и серебро свои тонкие белые пальцы и сказал мягким растроганным голосом:
– Трогательная милостыня, ты исчезнешь в самой мелкой складке моего пустого кошелька, но ты наполнила до краев то, что никто никогда не исчерпает, – мое сердце! Спасибо, друзья мои, спасибо!
И так как он не мог поцеловать всех находившихся в комнате, то поцеловал Лафонтена и сказал ему:
– Бедняга, из-за меня вы были биты своей женой и можете быть прокляты своим духовником!
– Ничего, – ответил поэт. – Пусть ваши кредиторы подождут два года, я за это время напишу еще сто стихотворений, выпущу их в двух изданиях, продам, и долг будет заплачен!
VI
Лафонтен ведет переговоры
Фуке с жаром пожал руку Лафонтену и сказал:
– Дорогой поэт, напишите нам еще сто стихотворений не только ради восьмидесяти пистолей, которые каждое из них принесет, но еще больше ради обогащения нашей словесности сотней шедевров.
– О, не думайте, – сказал Лафонтен, – что я принес господину суперинтенданту только эту идею и восемьдесят пистолей.
– Да у Лафонтена большие капиталы нынче! – вскричали со всех сторон.
– Будь благословенна идея, если она принесет мне сегодня один или два миллиона, – весело сказал Фуке.
– Вот именно, – ответил Лафонтен.
– Скорее, скорее! – кричало все общество.
– Смотрите, – сказал Пелиссон на ухо Лафонтену, – вы до сих пор имели большой успех, но не перегните палку.
– Ни в коем случае, господин Пелиссон, и так как вы человек со вкусом, вы первый меня одобрите.
– Речь идет о миллионах? – спросил Гурвиль.
Лафонтен ударил себя в грудь и сказал:
– У меня здесь полтора миллиона ливров.
– К чертям этого гасконца из Шато-Тьери! – воскликнул Лоре.
– Здесь дело не в кармане, а в голове, – сказал Фуке.
– Господин суперинтендант, – продолжал Лафонтен, – вы не генеральный прокурор, а поэт, вы поэт, художник, скульптор, друг искусства и наук, но, признайтесь сами, вы не магистрат.
– Признаюсь, – ответил господин Фуке.
– И если б вас избрали в Академию, вы бы от этого отказались, не правда ли?
– Думаю, что отказался, хотя и не хочу обижать академиков.
– Но почему же вы, не желая входить в состав Академии, соглашаетесь входить в состав парламента?
– О, о! – сказал Пелиссон. – Мы говорим о политике?
– Я спрашиваю, – продолжал Лафонтен, – идет или не идет господину Фуке мантия прокурора?
– Дело не в мантии, – заметил Пелиссон, раздраженный всеобщим смехом.
– Напротив, именно в мантии, – сказал Лоре.
– Отнимите мантию у генерального прокурора, – сказал Конрар, – и останется господин Фуке, на что мы совершенно не жалуемся. Но так как не бывает генерального прокурора без присущего ему одеяния, мы объявляем вслед за господином Лафонтеном, что мантия – пугало.
– А мне, – продолжал упрямый Пелиссон, – господин Фуке не представляется без прокурорской мантии. Что вы думаете об этом, Гурвиль?
– Я думаю, – отвечал он, – что прокурорская мантия вещь хорошая, а полтора миллиона стоят больше, чем мантия.
– Я согласен с Гурвилем! – воскликнул Фуке, обрывая спор своим утверждением, которое должно было, конечно, перевесить все остальные мнения.
– Полтора миллиона! – проворчал Пелиссон. – Черт возьми! Я знаю одну индусскую басню…
– Расскажите-ка мне ее, – сказал Лафонтен, – мне тоже ее надо знать.
– Расскажите, расскажите!
– У черепахи был щит, – начал Пелиссон. – Она пряталась за ним, когда ей угрожали ее враги. Однажды кто-то сказал ей: «Вам должно быть очень жарко летом в этом домике, и он мешает вам показывать вашу красоту. Вот этот уж хочет купить у вас ваш щит за полтора миллиона».
– Прекрасно! – засмеялся суперинтендант.
– Ну а дальше? – спросил Лафонтен, заинтересовавшийся больше самой басней, чем ее моралью.
– Черепаха продала свой щит и осталась голой. Коршун увидел ее; он был голоден; одним ударом клюва он убил ее и сожрал.
– А мораль? – спросил Конрар.
– Та, что господину Фуке надо оставить за собой свою прокурорскую мантию.
Лафонтен принял мораль всерьез и сказал своему собеседнику:
– Вы забываете Эсхила, лысого Эсхила, у которого ваш коршун, большой любитель черепах, с высоты принял череп за камень и бросил на него черепаху, хотя и спрятавшуюся под своим щитом.
– Боже мой, конечно, Лафонтен прав, – продолжал Фуке в раздумье, – большой коршун, если он хочет съесть черепаху, легко сумеет разбить ее щит. И еще счастливы те черепахи, за покрышку которых какой-нибудь уж согласен заплатить полтора миллиона. Пусть мне принесут такого щедрого ужа, как в вашей басне, Пелиссон, и я отдам ей свой щит.
– Rara avis in terris![10] – воскликнул Конрар.
– Похожая на черного лебедя, не правда ли? – прибавил Лафонтен. – Ну вот, я нашел такую совсем черную и очень редкую птицу.
– Вы нашли покупателя на мою должность генерального прокурора? – спросил Фуке.
– Да, сударь.
– Но господин суперинтендант никогда не говорил, что хочет ее продать, – заметил Пелиссон.
– Простите, но вы сами об этом говорили, – возразил Конрар.
– И я тому свидетель, – добавил Гурвиль.
– Ну, кто же этот покупатель, скажите-ка, Лафонтен? – спросил Фуке.
– Совсем черная птица, один из советников парламента, славный человек… Ванель.
– Ванель! – воскликнул Фуке. – Ванель! Муж…
– Совершенно правильно, ее муж, сударь.
– Бедный малый, – сказал с удивлением Фуке, – он хочет быть генеральным прокурором?
– Он хочет быть всем тем, чем были вы, сударь, и делать совершенно то же, что делали вы, – сказал Гурвиль.
– Это очень забавно, расскажите мне, Лафонтен.
– Все очень просто. Я время от времени вижу его. Как раз сегодня я его встретил: он бродил по площади Бастилии в самое то время, когда я собирался отправиться в Сен-Манде.
– Он, наверное, подстерегал свою жену, – вставил Лоре.
– Нет, что вы! – сказал Фуке. – Он не ревнив.
– И вот он подходит ко мне, обнимает меня, ведет в кабачок Имаж-сен-Фиакр и начинает рассказывать мне про свои огорчения.
– У него есть огорчения?
– Да, его жена прививает ему честолюбие. Ему говорили о какой-то должности в парламенте, о том, что было произнесено имя господина Фуке, и о том, что с этих пор госпожа Ванель мечтает быть генеральной прокуроршей и каждую ночь умирает от этого желания, если не видит во сне своего мужа прокурором.
– Черт возьми!
– Бедная женщина! – сказал Фуке.
– Подождите. Конрар всегда говорит, что я не умею вести дела, но вы сейчас увидите, как я повел это дело. Я сказал Ванелю: «Вы знаете, что это очень дорого стоит, такая должность, как у господина Фуке». «Ну а сколько приблизительно?» – спросил он. «Господин Фуке не продал ее за миллион семьсот тысяч ливров, которые ему предлагали». – «Моя жена, – отвечал Ванель, – считала, что это обойдется приблизительно в миллион четыреста тысяч». – «Наличными?» – «Да, наличными: она только что продала имение в Гиени и получила деньги».
– Это недурной куш, если получить его сразу, – сказал поучительно аббат Фуке, который до тех пор не проронил ни слова.
– Бедная госпожа Ванель! – пробормотал Фуке.
Пелиссон пожал плечами и сказал на ухо Фуке:
– Демон!
– Вот именно. И было бы очаровательно деньгами этого демона исправить зло, которое причинил себе ангел ради меня.
Пелиссон удивленно посмотрел на Фуке, но мысли Фуке с этого момента направились совсем по другому руслу.
– Ну, – сказал Лафонтен, – как вы находите мои переговоры?
– Замечательно, дорогой поэт.
– Да, но часто человек хвастается, что купит лошадь, когда у него нет денег даже на уздечку, – заметил Гурвиль.
– А Ванель, пожалуй, откажется, если его поймать на слове, – продолжал аббат Фуке.
– Вы говорите так, потому что не знаете развязки моей истории, – сказал Лафонтен.
– А, есть развязка? Что же вы так тянете? – спросил Гурвиль.
– Semper ad eventum[11], не правда ли? – сказал Фуке тоном вельможи, который путается в цитатах.
Латинисты захлопали в ладоши.
– А развязка моя, – воскликнул Лафонтен, – состоит в том, что Ванель, упрямое животное, когда узнал, что я еду в Сен-Манде, умолял меня взять его с собой.
– О, о!
– И представить его, если возможно, монсеньеру. Он сейчас находится на лужайке Бель-Эр. Что вы скажете на это, господин Фуке?
– Скажу, что не следует мужу госпожи Ванель столь долго находиться на пороге моего дома; пошлите за ним, Лафонтен, раз вы знаете, где он находится.
– Я сам побегу туда.
– Я пойду с вами, – сказал аббат Фуке, – я понесу мешки с золотом.
– Прошу без шуток, – строго сказал Фуке. – Если здесь есть дело, пусть оно будет серьезным. Но прежде всего будем гостеприимны. Попросите за меня извинения у этого благородного человека и передайте ему, что я огорчен тем, что заставил его ждать, но я не знал о его приезде.
Лафонтен поспешил за Ванелем. К счастью, Гурвиль сопровождал его, так как поэт, весь отдавшись вычислениям, сбился с пути и пустился было по направлению к Сен-Мору.
Через четверть часа господин Ванель входил в кабинет суперинтенданта, тот самый кабинет, который мы вместе со всеми смежными ему помещениями описали в начале повествования.
Увидя входящего Ванеля, Фуке подозвал Пелиссона и в течение нескольких минут говорил с ним шепотом.
– Запомните как следует, – сказал он ему, – велите уложить в карету все серебро, всю посуду, все драгоценности. Возьмите вороных лошадей. Ювелир поедет с вами. Задержите ужин до приезда госпожи де Бельер.
– Надо ведь еще предупредить госпожу де Бельер, – сказал Пелиссон.
– Не беспокойтесь. Я беру это на себя.
– Отлично.
– Идите, мой друг.
Пелиссон ушел, не очень хорошо понимая, в чем дело, но доверяя, как настоящий преданный друг, воле, которой он подчинялся. В этом сила избранных душ. Подозрительность – признак низменной души.
Ванель склонился перед суперинтендантом. Он собрался было начать длинную речь.
– Садитесь, сударь, – вежливо сказал ему Фуке. – Кажется, вы хотите купить мою должность?
– Монсеньер…
– Сколько вы можете заплатить мне за нее?
– Вы сами, монсеньер, должны назначить цену. Я знаю, что вам уже делали некоторые предложения.
– Мне говорили, что госпожа Ванель оценивает мою должность в миллион четыреста тысяч?
– Это все, что у нас есть.
– Вы можете выплатить эти деньги сразу?
– У меня их нет с собой, – сказал наивно Ванель, приготовившийся к борьбе, к хитростям, к шахматным комбинациям и озадаченный такой простотой и величием.
– Когда они будут у вас?
– Когда вам будет угодно, монсеньер.
Он боялся, что Фуке издевается над ним.
– Если б вам не приходилось возвращаться для этого в Париж, я бы сказал – сейчас же…