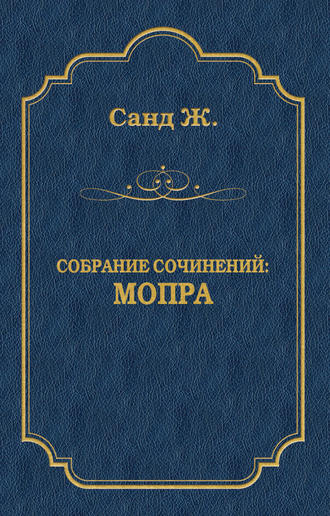
Полная версия
Мопра
– Ты либо моя любовница, либо жена, – твердил я, продолжая ее преследовать.
– Вы негодяй! – возразила она, отгоняя меня хлыстом. – Чем заслужили вы какие-то права на меня? Спасли моего отца?
– Я поклялся его спасти и спас бы, конечно, будь он здесь; стало быть, все равно что спас. А знаете ли, ежели бы я на этом попался, в Рош-Мопра придумали бы для меня самую жестокую, самую мучительную пытку! Да меня бы сожгли на медленном огне за измену! Я клялся не таясь, меня могли услышать. Правда, это не слишком меня заботит; не так уж я дорожу жизнью – днем раньше, днем позже. Но вашими милостями, моя красотка, я дорожу и разыгрывать томного рыцаря не намерен; насмехаться над собою я не позволю. Решайтесь: либо вы будете моею сейчас же, либо, клянусь честью, я снова вмешаюсь в перепалку, и, если меня убьют, пеняйте на себя. Вы лишитесь вашего рыцаря, и вам придется иметь дело с семерыми Мопра сразу. Их-то в узде не удержишь! Боюсь, что лапки у вас для этого чересчур слабы, прелестная моя кошечка!
Я ронял бессвязные слова с единственной целью – отвлечь ее внимание и завладеть ее руками, заключить ее в объятия; на нее же мои речи произвели сильное впечатление. Отбежав в другой конец залы, она попыталась отворить окно; но ей не под силу было сдвинуть с места заржавевшую задвижку свинцовых рам. Старания ее меня рассмешили. Охваченная тревогой, она скрестила руки и замерла; потом выражение ее лица внезапно переменилось, – казалось, она приняла решение: подошла и, улыбаясь, протянула мне руку. И так прекрасна была она в ту минуту, что словно туман поплыл у меня перед глазами и на мгновение скрыл ее от моих взоров.
Простите мне это ребячество, но я должен рассказать вам, как она была одета. После той необычайной ночи она никогда больше не надевала этот наряд, и все же я запомнил его до мелочей. Давно это было. Ну что же, проживи я еще столько, не забуду ни малейшей подробности – так поразил меня ее вид среди смятения, царившего вовне и внутри меня, когда ружейная пальба гремела на крепостном валу, молнии бороздили небо и буйный трепет стремительно гнал мою кровь от сердца к мозгу и обратно.
О, как она была хороша! Образ ее и сейчас еще стоит у меня перед глазами. Говорю вам, словно сейчас вижу ее в наряде амазонки, какой носили в те времена: на ней была очень широкая суконная юбка; стан обтянут жемчужно-серого цвета атласным корсажем на пуговичках и перехвачен красным шарфом. Поверх надет, по тогдашней моде, короткий охотничий жакет, обшитый галунами и открытый на груди; серая фетровая шляпа с широкими, загнутыми спереди полями, увенчанная полудюжиной красных перьев, покрывает ее ненапудренные волосы, приподнятые на лбу и ниспадающие на спину двумя длинными косами, как носят уроженки Берна. Косы такие длинные, что почти касаются земли.
Это, как мне показалось, волшебное одеяние, и цветение юности, и благосклонность, с какою Эдме как будто принимала мои домогательства, – всего этого было довольно, чтобы я обезумел от любви и восторга. Я не мыслил ничего более сладостного, нежели обладание прекрасной женщиной, которой неведомы непристойные слова и покаянные слезы. Моим первым порывом было заключить ее в объятия, но, подчиняясь непобедимой потребности преклонения, отличающей первую любовь даже у самых грубых людей, я упал к ее ногам и обнял ее колени. И при этом я все еще воображал, что предмет моего поклонения самая настоящая распутница. Тем не менее я был близок к обмороку.
Она обняла мою голову своими прекрасными руками, восклицая:
– Ведь я знала, знала, что вы не такой, как эти выродки! Ах, боже мой! Вы спасете меня! Хвала Создателю!.. Родной мой, скажите же – куда?.. Скорей!.. Бежим!.. Через окно? О нет, сударь, я не боюсь! Идемте же!
Я словно очнулся от сна, и, признаюсь, пробуждение мое было чрезвычайно тягостным.
– Что это значит? – спросил я, вставая с колен. – Вы мной играете? Разве вы забыли, где находитесь? Уж не считаете ли вы меня ребенком?
– Знаю, что я в Рош-Мопра, – бледнея, ответила она, – и надо мной, того и гляди, надругаются, убьют, если мне не удастся внушить вам хоть каплю жалости! Но мне это удастся! – воскликнула она, падая к моим ногам. – Вы не такой, как эти негодяи! Вы слишком юны, вам ли быть таким чудовищем! Я по лицу вашему прочла, что вам жаль меня. Вы поможете мне бежать, ведь правда? Правда же, душа моя?
Она схватила мои руки и стала осыпать их горячими поцелуями, пытаясь поколебать мою решимость; я слушал и тупо глядел на нее, что едва ли могло ее успокоить. Мое сердце было мало доступно великодушию и состраданию, а в эту минуту страсть, более властная, нежели все прочие чувства, заглушила в нем жалость, которую пыталась пробудить Эдме. Я пожирал ее глазами, не понимая ни слова из того, что она говорит. Одно только занимало меня: нравлюсь ли я ей или она хочет воспользоваться мною как орудием своего освобождения.
– Вижу, вы меня боитесь, – сказал я. – Напрасно: ведь я не причиню вам зла. Вы так красивы, что я жажду лишь ваших ласк.
– Да, но ваши родичи убьют меня, – воскликнула она, – вы хорошо это знаете! Неужто вы дадите меня убить? Ведь я вам нравлюсь, спасите же меня, потом я вас полюблю.
– О да, конечно, вы меня полюбите потом, – ответил я, глупо и недоверчиво усмехаясь, – потом, когда подговорите жандармов меня повесить, а я как-никак изрядно их отделал. Ну, нет, прежде докажите, что меня любите, а уж потом я вас спасу! Тоже – потом!..
Тщетно гонялся я за нею по комнате: она ускользала. Но гнева она не обнаруживала и пыталась повлиять на меня ласковыми уговорами. Щадя во мне свою последнюю надежду, несчастная боялась меня разозлить. О, если бы мне дано было понять, что это за женщина, понять, какую роль я играю! Но, одержимый одной неотвязной мыслью, достойной хищного волка, если бы он мог мыслить, я был на это не способен.
В ответ на все ее мольбы я твердил одно:
– Любишь ты меня или глумишься надо мной?
Наконец она поняла, с каким животным имеет дело, и решилась. Обвив руками мою шею, спрятав лицо у меня на груди, она позволила целовать свои волосы. Потом, мягко отстранив меня, сказала:
– Ах, боже мой! Неужто ты не замечаешь, что я люблю тебя, что ты понравился мне с первой же минуты, как я тебя увидела? Но пойми же, твои дяди ненавистны мне, я хочу принадлежать одному тебе!
– Ну да! – упрямо возразил я. – А сами-то думаете: «Вот дурень! Я смогу убедить его в чем угодно; стоит лишь мне сказать, что я его люблю, он и поверит, а я приведу его на виселицу!» Так вот, если вы меня любите, довольно одного только слова.
Эдме глядела на меня в тревоге, а я все искал ее губ, она же пыталась увернуться от моих поцелуев. Я держал ее руки в своих, теперь она могла лишь отдалить минуту своего поражения. Внезапно бледное ее лицо порозовело, она улыбнулась и с ангельски-кокетливым видом спросила:
– А вы? Вы меня любите?
С этой минуты победа оставалась за нею. У меня уже не было силы желать того, чего я желал; в моем рысьем мозгу произошел переворот – я словно стал человеком, и в голосе моем прозвучало, пожалуй, человеческое чувство, когда впервые в жизни я воскликнул:
– Да, я люблю тебя! Люблю!
– Ну что ж! – нежно сказала она, взглянув на меня безумными глазами. – Вот мы и будем любить друг друга, а теперь бежим…
– Да, бежим, – ответил я. – Как ненавижу я и этот дом и моих дядей!.. Давно уже хотелось мне бежать отсюда. Но ты ведь знаешь: меня повесят.
– Не повесят тебя! – смеясь, возразила она. – Мой жених – председатель окружного суда.
– Жених? – воскликнул я, охваченный приступом еще более жгучей ревности. – Так ты собираешься замуж?
– А почему бы и нет? – ответила она, внимательно на меня поглядев.
Я побледнел и стиснул зубы.
– Ну, тогда… – сказал я и схватил ее в объятия, пытаясь унести.
– Ну, тогда получай, – ответила она, отпустив мне легкую пощечину. – Ты, я вижу, ревнуешь? Странный же ты ревнивец! Готов обладать любовницей ввечеру, чтобы в полночь уступить ее восьми пьяницам. А завтра они вернут ее тебе втоптанную в грязь.
– Ты права! – согласился я. – Беги же! Беги! Я буду защищать тебя до последней капли крови! Но их много, и они одолеют… А я погибну с мыслью, что ты достанешься им. Ужасно! Зачем ты напомнила мне об этом? Какая тоска… Ну что ж, ступай.
– О да! О да, мой ангел! – воскликнула она, с горячностью целуя меня в обе щеки.
Эта забытая с детства женская ласка чем-то напомнила мне последний материнский поцелуй; вместо наслаждения я ощутил глубокую грусть. Глаза мои наполнились слезами. Она заметила это и, целуя набежавшие слезинки, повторяла:
– Спаси меня! Спаси!
– А ты потом выйдешь замуж? Так слушай же! Клянись, что, пока я жив, у тебя не будет мужа! Ждать тебе придется недолго: дядюшки мои чинят расправу быстро да чисто – так они сами говорят.
– А ты разве не бежишь со мною? – возразила она.
– С тобою – нет! Повесят ли меня там, как разбойника, или здесь – за то, что я помог тебе бежать, не все ли равно? Так, по крайней мере, я не опозорю себя, прослыв доносчиком, и меня не повесят на площади перед всем честным народом.
– Я не оставлю тебя здесь, – вскричала она, – даже если мне суждено погибнуть! Бежим со мной! Не бойся ничего, верь моему слову. Я отвечаю за тебя перед Богом. Убей меня, если я лгу! Но бежим скорей… О боже! Они поют, я слышу их голоса. Они идут сюда! Ах, если ты не хочешь меня защитить, убей меня, сейчас же убей!
Она бросилась ко мне в объятия. Любовь и ревность переполняли мое сердце; и, верно, у меня явилась мысль ее убить; всякий раз, как вблизи раздавались голоса и топот ног, я хватался за свой охотничий нож. Кругом слышны были победные клики. Проклиная Небо за то, что оно не даровало победу врагу, я привлек Эдме к себе на грудь, и мы замерли друг у друга в объятиях. Далекий ружейный залп возвестил, что сражение возобновилось. Я страстно прижал ее к сердцу.
– Ты похожа на робкую горлинку; как-то раз, спасаясь от коршуна, птичка забилась ко мне под куртку и спряталась у меня на груди.
– Но ты ведь не отдал ее коршуну, не правда ли? – спросила Эдме.
– Черта с два! И тебя не отдам, пташка ты моя лесная, прекрасная. Ведь эти злые ночные хищники тебя растерзают!
– Но как мы убежим? – спросила она, в страхе прислушиваясь к ружейной перестрелке.
– Очень просто, – сказал я, – ступай за мной.
Взяв факел, я приподнял крышку люка и помог Эдме спуститься в погреб. Оттуда мы проникли в подземелье, высеченное в скале. В старину оно служило хорошей защитой. Гарнизон в замке был тогда внушительный; проникнув через подземелье в поле, по другую сторону от опускной решетки, можно было напасть на осаждающих с тыла, окружить их, и они оказывались между двух огней. Но прошли уже те времена, когда гарнизон Рош-Мопра мог разделиться на два отряда; да, впрочем, было бы безумием отважиться ночью на такую вылазку. Итак, мы с Эдме беспрепятственно добрались до подземного выхода; но тут меня обуял внезапный приступ ярости. Швырнув на землю факел, я спиною загородил дверь и объявил трепещущей пленнице:
– Ты отсюда не выйдешь, пока не станешь моей.
Стояла кромешная тьма. Грохот сражения уже не доходил до нас. Мы тысячу раз могли ускользнуть из подземелья, прежде чем нас настигнет погоня. Все здесь распаляло мою отвагу; судьба Эдме зависела от моей прихоти. Увидав, что чары ее не властны более надо мной и не могут пробудить во мне высокие чувства, она оставила свои мольбы и отступила во мрак подземелья.
– Отвори дверь, – сказала она, – и выйди первый, не то я убью себя. Я взяла твой охотничий нож: ты забыл его наверху. Ступай же к твоим дядям, но ты перешагнешь через мой труп!
Решимость, с какой она это произнесла, меня испугала.
– Верните нож, – сказал я, – или я отниму его у вас силой, чего бы это ни стоило.
– Не думаешь ли ты, что я боюсь смерти? – спокойно возразила она. – Попадись мне этот нож там, наверху, я не стала бы перед тобой унижаться!
– Горе мне! – вскричал я. – Вы меня обманываете! Вы не любите меня! Уходите! Я презираю вас, я не пойду за вами!
Говоря это, я распахнул перед нею дверь.
– Я не хочу уходить без вас, а вы, вы требуете, чтобы я ушла отсюда обесчещенной!.. Кто же из нас великодушней?
– Безумная! Вы мне солгали, а нынче не придумаете, как оставить меня в дураках. Но вы не уйдете отсюда, пока не дадите клятву, что станете моей любовницей, прежде чем выйдете замуж за вашего председателя или кого бы то ни было.
– Любовницей? – переспросила она. – Вот как? Сказали бы хоть «женой», чтобы умалить вашу дерзость!
– Любой из моих дядюшек так бы и сказал в надежде на ваше приданое, а мне нужна только ваша красота. Клянитесь, что будете принадлежать мне первому, и клянусь, я дам вам свободу! Если же ревность одолеет меня и не под силу будет ее терпеть – слово мужчины: я застрелюсь.
– Клянусь, – сказала Эдме, – что никому не буду принадлежать до вас.
– Это не то; клянитесь, что будете принадлежать мне первому.
– Это то же самое, – ответила она. – Клянусь!
– Евангелием? Христом? Спасением души? Прахом матери?
– Евангелием, Христом, спасением души, прахом матери!
– Хорошо!
– Погодите, – возразила она. – Клянитесь, что обещание мое и тогда, когда будет выполнено, навеки останется нашей тайной, что ни отец мой, ни кто другой, кто мог бы ему проговориться, никогда об этом не узнает.
– Никто и никогда! К чему? Только бы вы его сдержали!
Она заставила меня слово в слово повторить клятву, и, взявшись за руки в знак взаимного доверия, мы бросились вон из подземелья.
Побег становился все более чреват опасностями. Эдме страшилась осаждающих почти так же, как осажденных. Нам посчастливилось не встретить ни тех ни других, но бежать было нелегко. Ночь стояла безлунная, мы то и дело натыкались на деревья, а скользко было так, что едва можно было удержаться на ногах. Внезапно оба мы вздрогнули: раздалось какое-то треньканье; я догадался, что это звенит цепь, которой стреножена лошадь моего деда; десятью годами ранее та же лошадь доставила меня в Рош-Мопра. Старый конь был по-прежнему выносливым и норовистым. Смастерив из болтавшейся у него на шее веревки петлю и взнуздав коня, я накинул ему на спину свою куртку, усадил беглянку, развязал путы, вскочил на коня сам и, яростно пришпорив его, пустил галопом куда глаза глядят. На наше счастье, конь знал дорогу лучше моего и даже в темноте сворачивал куда надо, не натыкаясь на деревья. Правда, он то и дело скользил и оступался, отчего нас так подбрасывало, что, если бы не стояла на карте наша жизнь, мы бы наверняка уже не раз свалились на землю, скача таким манером на неоседланной лошади. Но в таких случаях самая безнадежная попытка удается как нельзя лучше: сам Бог хранит того, кого преследуют люди. Казалось, опасность уже миновала, как вдруг лошадь наша споткнулась о пень и, зацепившись копытом за корневище, упала. Не успели мы опомниться, как она исчезла во мраке, и дробный топот становился все глуше и глуше. Я успел подхватить Эдме; она не ушиблась, но я вывихнул себе ногу, да так, что не мог ступить ни шагу. Эдме решила, что нога у меня сломана; мне и самому это казалось – такая сильная была боль. Но вскоре я забыл и думать о моих страданиях и тревогах. Нежная забота беглянки заставила меня позабыть обо всем. Напрасно умолял я ее продолжать путь без меня; теперь ей удалось бы спастись. Мы были уже довольно далеко от Рош-Мопра. Рассвет не заставит себя ждать. Чье бы жилище ни попалось ей на пути, защиту от Мопра она найдет повсюду.
– Я не покину тебя! – упрямо твердила Эдме. – Как ты доверился мне, так я вверяю свою судьбу тебе. Мы либо спасемся оба, либо оба погибнем!
– Я вижу свет! – воскликнул я. – О да! Я не ошибся! Вон там среди ветвей! Там кто-то живет. Эдме, ступайте, постучитесь. Вы сможете спокойно оставить меня там и найдете проводника, который отведет вас домой.
– Я ни за что вас не оставлю, – сказала она, – но пойду узнаю, не окажут ли вам помощь.
– Нет, я не допущу, чтобы вы сами постучали в эту дверь! – возразил я. – Свет в доме глубокой ночью, в лесной глуши… А вдруг это какая-нибудь ловушка!
Я дотащился до двери. Она была холодна, словно железная; стены увиты были плющом.
– Кто там? – крикнули изнутри, прежде чем мы успели постучать.
– Мы спасены! – воскликнула Эдме. – Это голос Пасьянса.
– Мы погибли, – возразил я. – Он мой смертельный враг.
– Не бойтесь, ступайте за мной; сам Бог привел нас сюда.
– Да, сам Бог привел тебя сюда, душенька ты моя райская, звездочка утренняя, – сказал Пасьянс, распахивая дверь. – И кто бы с тобою ни был, милости просим и его в башню Газо.
Мы вошли под низкие своды. Посредине висела железная лампа. В зале, скудно освещенной ее неверным светом и пылающим в очаге хворостом, мы с удивлением обнаружили необычайных гостей, удостоивших своим присутствием башню Газо. Отблески пламени падали на бледное, задумчивое лицо мужчины в одежде священника, который сидел у огня. По другую сторону очага виднелась желтая длинная физиономия второго гостя, обрамленная тощей бороденкой и наполовину скрытая широкополой шляпой, а на стене вырисовывалась тень его носа, столь острого, что он мог сравниться разве только с тонкой рапирой, лежавшей на коленях его обладателя, или же с остроконечной мордочкой тщедушного пса, напоминавшего громадную крысу; была какая-то таинственная гармония между этими тремя колючими остриями: носом Маркаса, его рапирой и собачьей мордой.
Маркас медленно привстал и коснулся рукою края шляпы. Так же поступил и священник-янсенист. Пес молчал, как и его господин. Вынырнув между ног хозяина, он оскалил зубы, прижал уши, но не залаял.
– Спокойно, Барсук, – приказал ему Маркас.
VII
Узнав Эдме, священник отступил с возгласом удивления. Но ничто не могло сравниться с изумлением Пасьянса, когда свет пылающей головни, заменявшей ему факел, озарил мое лицо.
– Голубка и медвежонок! – воскликнул он. – Что же это делается?
– Друг, – ответила Эдме, к моему удивлению вложив свою белую ручку в загрубевшую ладонь колдуна, – окажите ему такое же гостеприимство, как и мне: он освободил меня из Рош-Мопра. Я была захвачена в плен.
– Да простятся ему за то все беззакония, содеянные им и его родичами! – воскликнул священник.
Пасьянс, ни слова не говоря, взял меня под руку и повел к очагу. Меня усадили на единственный стул, и пока Эдме, кое-чего недоговаривая, повествовала о нашем приключении и расспрашивала об отце, оставленном ею на охоте, священник счел своим долгом осмотреть мою ногу. Пасьянс не мог сообщить Эдме ничего нового. В чаще то и дело раздавался зов охотничьего рога, и выстрелы раз за разом нарушали лесную тишь. Но грянула буря, и Пасьянс не слыхал уже ничего, кроме завывания ветра, – откуда же ему было знать, что происходит в Варенне. Маркас проворно вскарабкался вверх по приставной лесенке, стоявшей на месте разрушенных ступенек. Пес его с изумительной ловкостью следовал за ним. Вскоре оба спустились к нам, и мы узнали, что на горизонте, со стороны Рош-Мопра, полыхает пламя пожара. При всей моей ненависти к этой обители и ее владельцам, я не мог подавить в себе горестного чувства, услышав, что, по всей видимости, фамильный замок, носивший мое родовое имя, захвачен и предан огню; это было позорное поражение, и багровое зарево казалось мне печатью, проставленной на моем гербе в знак победы тех, кого я называл мужичьем и деревенщиной. Я вскочил и, если бы не острая боль в ноге, ринулся бы к двери.
– Что с вами? – спросила Эдме, стоявшая возле меня.
– А то, – грубо ответил я, – что мне нужно вернуться! Это мой долг! Я скорее дам себя убить, чем допущу, чтобы мои дяди договаривались с чернью.
– С чернью? – воскликнул Пасьянс, впервые удостоив меня словом. – Кто это здесь толкует о черни? Я сам чернь! Такое мое звание, и уж я-то сумею заставить его уважать!
– Ну нет, только не меня! – сказал я, отталкивая священника, который пытался усадить меня на место.
– Вас-то мне учить не впервые! – заметил Пасьянс с презрительной усмешкой.
– Да ведь мы с тобой еще не расквитались! – воскликнул я и, преодолевая ужасную боль в ноге, вскочил и решительно оттолкнул Маркаса, который по примеру священника пожелал выступить в роли миротворца. Дон Маркас отлетел и упал навзничь прямо в золу. Задел я его не со зла, но, что и говорить, довольно грубо; бедняга же был до того тощ, что показался мне легче любого из грызунов, за которыми он охотился. Пасьянс стоял предо мною, скрестив руки на груди, – ни дать ни взять философ-стоик, но во взгляде его сквозила жгучая ненависть. Нетрудно было догадаться, что только законы гостеприимства не позволяют ему сокрушить меня, и он выжидает, когда я первый нанесу ему удар. Я и не заставил бы его долго ждать, однако Эдме, презрев опасность, какою грозило ей мое бешенство, схватила меня за руку, заявив не терпящим возражения тоном:
– Садитесь и успокойтесь! Слышите? Я вам приказываю!
Такая смелость и доверие поразили меня и восхитили. Она властно распоряжалась мною, и это само по себе как бы являлось подтверждением тех прав, на какие притязал я.
– Согласен! – ответил я успокаиваясь. И добавил, глядя на Пасьянса: – Ты от меня не уйдешь!..
– Аминь! – ответил он, пожав плечами.
Маркас с большим хладнокровием поднялся, стряхнул с одежды золу и, не вступая со мной в пререкания, попытался на свой лад урезонить Пасьянса. Это было дело нелегкое, но односложные поучения Маркаса звучали среди нашей перепалки словно эхо в бурю.
– Ведь стар, – выговаривал он хозяину, – а терпения нет! Ваша вина! Да, кругом ваша!
– Какой несносный! – говорила Эдме, положив руку мне на плечо. – Не вздумайте начать снова, не то я уйду совсем.
Я с наслаждением выслушивал ее попреки, не замечая, как быстро мы поменялись ролями. Теперь приказывала и угрожала она: стоило нам переступить порог башни Газо, и Эдме обрела надо мною прежнюю власть. Уединенная эта обитель, и посторонние свидетели нашей встречи, и свирепый хозяин здешних мест – все это было уже тем обществом, в которое я вступал, ярмо которого я вскоре должен был ощутить.
– Ну вот, – сказала Эдме, обращаясь к Пасьянсу, – мы здесь никак не помиримся, а меня терзает тревога за бедного моего отца: сейчас, в глухую ночь, он ищет меня повсюду и, верно, в полном отчаянии. Пасьянс, милый! Придумай способ его разыскать. Этот бедный юноша пойдет со мною: не могу же я оставить его на твое попечение, если твоей любви ко мне не хватает даже на то, чтоб проявить к нему терпение и сострадание.
– Что это вы говорите? – воскликнул Пасьянс и провел рукой по лбу, словно очнулся ото сна. – А ведь ваша правда: я, старый дурак, совсем рехнулся! Дщерь Господня! Скажи-ка этому мальчугану, то бишь дворянину, что за прошлое я у него прошу прощения; а что до настоящего – убогая моя келья к его услугам; верно я говорю?
– Верно, Пасьянс, – сказал священник. – Да ведь можно еще все уладить: лошадь у меня спокойная и надежная; мадемуазель де Мопра на нее сядет, а ты с Маркасом поведешь ее под уздцы; я же останусь здесь около пострадавшего. Обещаю хорошо за ним ухаживать и ничем его не прогневить. Ведь правда, господин Бернар, вы ничего против меня не имеете? Верите вы, что я вам не враг?
– Не знаю, – ответил я, – как вам будет угодно. Позаботьтесь о моей кузине, проводите ее; а я ни в ком и ни в чем не нуждаюсь. Охапка соломы, стакан вина – вот и все, чего бы мне хотелось, если это возможно.
– Вы получите и то и другое, – сказал Маркас, протягивая мне свою флягу, – сначала подкрепитесь, а я пойду на конюшню, оседлаю лошадь.
– Нет, я сам, – сказал Пасьянс. – Позаботьтесь-ка об этом юноше.
И он прошел в соседнее помещение, служившее конюшней для лошади священника, когда тот наведывался к Пасьянсу. Коня провели через залу, где находились мы, и Пасьянс, накрыв седло священнической рясой, с отеческой заботливостью подсадил на него Эдме.
– Погодите-ка, – сказала она, перед тем как тронуться в путь. – Господин кюре! Клянетесь ли вы спасением души, что не покинете моего кузена, пока я не вернусь за ним вместе с отцом?
– Клянусь! – ответил священник.
– А вы, Бернар, – продолжала Эдме, – поклянетесь ли вы честью, что будете здесь меня ждать?
– Ну уж, не знаю, – ответил я, – это зависит от того, как долго придется ждать и хватит ли у меня терпения; но вам-то, сестрица, ведь известно, что мы еще свидимся хоть у черта на рогах, а по мне – чем скорей, тем лучше.
При свете головни, которой размахивал Пасьянс, проверяя, в порядке ли конская сбруя, я увидел, как прекрасное лицо Эдме сначала вспыхнуло, потом побледнело. Затем она подняла печально поникшую голову и пристально, странно на меня поглядела.
– Ну что ж, в путь? – спросил Маркас, открывая дверь.
– В час добрый, – ответил Пасьянс, беря лошадь под уздцы. – Эдме, доченька, не забудь наклонить голову под притолокой.












