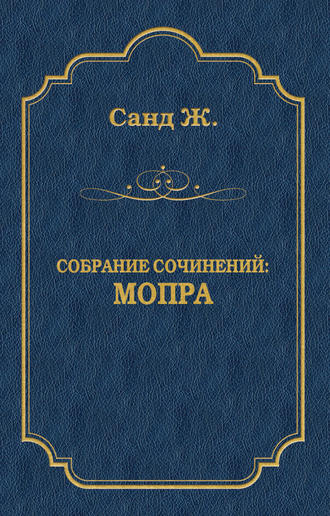
Полная версия
Мопра
IV
– Я рассказывал вам о жизни и философских исканиях Пасьянса как ваш современник, – помедлив, продолжал Бернар, – и мне довольно трудно вернуться к впечатлению от первой встречи с колдуном из башни Газо. Постараюсь, однако, в точности воспроизвести все, как оно сохранилось у меня в памяти.
В один из летних вечеров возвращался я с ватагой крестьянских мальчишек из лесу, где мы на манок ловили птиц; тут-то и привелось мне впервые проходить мимо башни Газо. Шел мне тринадцатый год; среди моих спутников я был самым рослым и сильным, к тому же я неукоснительно пользовался своими феодальными преимуществами. Отношения наши являли собой забавную смесь панибратства и раболепия. Порой, когда охотничий пыл или усталость целого дня с особенной силой овладевали мальчишками, мне приходилось уступать их желаниям; и, как всякий деспот, я уже научился вовремя сдаваться и никогда не показывать вида, что принужден к этому в силу необходимости; но при случае я брал свое, и тогда ненавистное имя Мопра заставляло их трепетать.
Уже смеркалось; мы весело шагали, сбивая камнями гроздья рябины и подражая птичьим голосам; вдруг мальчишка, который шел впереди, попятился и объявил, что нога его не ступит на тропинку, проходящую мимо башни Газо. Двое других поддержали его. Третий возразил, что сходить с тропинки опасно, можно заблудиться – ночь на носу, а волков тьма тьмущая!
– Ну, ты, негодник! – властно прикрикнул я и подтолкнул нашего проводника. – Ступай-ка по тропинке и не приставай со всяким вздором!
– Чур меня! – пролепетал мальчуган. – Я там колдуна в дверях заприметил; он все бормочет, будто наговаривает; чего доброго, станет меня весь год лихорадка трепать…
– Да нет же! – сказал другой. – Он не на всякого порчу напускает, он малышей не трогает; надо только пройти потихоньку и не задирать его; что он нам сделает?
– Были бы мы одни – так уж ладно, а то ведь с нами господин Бернар, тут беды не миновать!
– Ты что это плетешь, болван? – воскликнул я и замахнулся кулаком.
– Я тут, ваша милость, ни при чем, – отозвался мальчуган. – Не жалует эта старая нечисть господ. Колдун говаривал не раз: «Чтоб ему, господину Тристану, со всеми его сыновьями на одном суку повиснуть!».
– Ах, так? Ну ладно! – ответил я. – Вот подойдем поближе, тогда видно будет! Кто за меня – иди со мной; кто меня бросит – тот трус!
Двое моих спутников, движимые самолюбием, пошли следом. Остальные сделали вид, что не отстают, но, пройдя несколько шагов, разбежались и скрылись в чаще; я же горделиво продолжал путь в сопровождении двух своих приспешников. Малыш Сильвен шагал впереди; завидев издалека Пасьянса, он поспешил снять шляпу; мы поравнялись со стариком, который стоял, опустив голову, и, казалось, не обращал на нас ни малейшего внимания, и тут перепуганный мальчуган дрожащим голосом пролепетал:
– Добрый вечер и… и доброй ночи, сударь!
Выведенный из задумчивости, колдун вздрогнул, словно пробудившись от сна, и я не без некоторого трепета уставился на его загорелое лицо, наполовину заросшее седой бородой. Голова у него была большая и совершенно лысая, а на оголенном лбу резко выделялись косматые брови, из-под которых, подобно молниям, сверкающим сквозь поблекшую в конце лета листву, блистали круглые, глубоко посаженные глаза. Низкорослый, широкоплечий, он был сложен как гладиатор. На нем горделиво красовались неопрятные лохмотья. Лицо у него было широкое и грубое, как у Сократа; и если его резкие черты и озарял незаурядный ум, мне не дано было это заметить. Он показался мне диким зверем, мерзким животным. Ненависть захлестнула меня; решив отомстить за поношение всего моего рода, я вложил камень в рогатку и без дальних проволочек с силой метнул в колдуна. Камень вылетел, когда Пасьянс отвечал на приветствие мальчугана.
– Добрый вечер, малыши, да благословит вас Бог!.. – только успел произнести старик; но тут камень, просвистев у него над ухом, угодил в ручную сову, ютившуюся среди плюща, которым была увита дверь. Сова, единственная отрада старика, готова была уже пробудиться в наступавших сумерках.
С пронзительным криком окровавленная птица упала к ногам хозяина; Пасьянс застонал, а потом весь окаменел от изумления и ярости. Вдруг быстрым движением схватив за лапы трепещущую птицу, он поднял ее с земли и пошел нам навстречу.
– Говорите, негодники, кто швырнул камень? – громовым голосом закричал он.
Тот из моих спутников, что шел позади, поспешил удрать, а Сильвен, схваченный огромной ручищей колдуна, упал на колени и стал клясться Пречистою Девой и святою Соланж, покровительницей Берри, что неповинен в убийстве совы. Признаюсь, у меня было сильное искушение скрыться в чаще, предоставив мальчугану самому выпутываться из этой передряги как бог на душу положит. Я думал увидеть старого, дряхлого шарлатана и вовсе не желал угодить в лапы такому силачу; но гордость удержала меня.
– Горе тебе, ежели это ты, негодник! – приговаривал Пасьянс, обращаясь к моему дрожавшему от страха спутнику. – Мал ты еще, но как вырастешь, будешь бесчестным человеком. Мерзость-то какая: потехи ради причинил горе старику, а ведь я ничего дурного тебе не сделал! И хитрость-то какова, трусливый ты притворщик! А еще так учтиво со мной здоровается! Лгун ты, бесчестный обманщик! Отнял у меня единственного друга, единственное мое сокровище, да еще радуешься чужой напасти! Пусть приберет тебя Господь поскорее, ежели суждено тебе по этой дорожке пойти!
– Ах, господин Пасьянс! – заплакал мальчуган, умоляюще складывая руки. – Не проклинайте меня, не накликайте на меня беду, не насылайте порчу! Это не я! Убей меня бог, если это я!..
– Ежели не ты, выходит, он, что ли? – заревел Пасьянс, схватив меня за шиворот и встряхнув так, словно пытался вырвать с корнем деревце.
– Да, я! – услышал он высокомерный ответ. – И знай, что зовут меня Бернар Мопра и что мужик, осмелившийся тронуть дворянина, достоин смерти!
– Смерти? Это ты угрожаешь мне смертью? – воскликнул старик, изумленный и негодующий. – Где же тогда Господь Бог, если такой сопляк может грозить старому человеку? Смерти! Да ты и впрямь Мопра, вылитое их подобие, пащенок проклятый! Едва на свет успел народиться, а уж смертью грозишь! Этакий волчонок! Да знаешь ли ты, что сам ее достоин, и не за то, что натворил, а за то, что ты отцовское отродье и дядюшкин племянник! Эх, и рад же я, что Мопра мне в руки попался! Посмотрим-ка, больше ли веса в каком-то негодном дворянчике, нежели в добром христианине?..
С этими словами Пасьянс, словно зайчонка, приподнял меня над землей.
– А ты, малыш, ступай домой, – сказал он, обращаясь к моему спутнику, – да не бойся: Пасьянс на своего брата в обиде не будет; он прощает братьям своим, потому – они неученые, как и он, не ведают, что творят; но Мопра – они-то и читать и писать горазды, а злоба в них с того лишь крепчает… Ступай… Нет, постой! Хоть раз в жизни увидишь, как мужицкая рука дворянина высекла. Смотри же, малыш, запомни да родне своей расскажи.
Побледнев от гнева, судорожно стиснув зубы, я отчаянно сопротивлялся. С пугающим хладнокровием Пасьянс лозой привязал меня к дереву. Ему ничего не стоило своей широкой мозолистой рукой согнуть меня, как тростинку, а я ведь был на редкость силен для своих лет. К ветке дерева, нависшей надо мною, он привязал сову, и кровь ее капала прямо мне на голову; ужас пронизывал меня. И хотя я знал, что так наказывают охотничью собаку, если она кидается на дичь, у меня от ярости, отчаяния и воплей моего спутника помутилось в голове; я готов был поверить, что надо мной тяготеет какое-то ужасное заклятие; вздумай Пасьянс превратить меня в сову, я был бы наказан не столь жестоко. Напрасно осыпал я его угрозами, напрасно клялся чудовищно отомстить, напрасно мальчуган снова бросился на колени, тоскливо повторяя:
– Сударь, ради бога, ради вас самих, не троньте его! Мопра убьют вас.
Пасьянс расхохотался, пожал плечами и, вооружившись связкой остролиста, выпорол меня; должен сознаться: это было скорее унизительно, чем больно; едва увидев, что брызнула кровь, он остановился, отшвырнул розгу, и я даже заметил, как внезапно изменился он в лице, как дрогнул его голос, словно он раскаивался в своей жестокости.
– Мопра, – сказал он мне, скрестив руки на груди и глядя на меня в упор, – вот ты и наказан, вот ты и унижен, мой дворянчик; с меня хватит… Видел? Стоит мне пальцем шевельнуть – из тебя и дух вон; не пришлось бы тебе больше пакостить; схоронил бы я тебя тут, под каменным порогом. А кому в голову взбредет искать у старика Пасьянса балованного дворянского сынка? Да я, видишь ли, на зло непамятливый; только ты от боли застонал – я тебя и отпустил. Не люблю я людей терзать: я ведь не Мопра. А тебе не повредит разок самому испытать, каково-то муки терпеть. Может статься, это и отобьет у тебя охоту людей истязать, как из рода в род у Мопра повелось! Ступай! Зла я тебе не желаю; Господь Бог свершил Свой праведный суд. А дядьям своим скажи, пусть хоть на угольях меня жарят или живьем лопают! Небось им кусок поперек горла станет. Подавятся!..
Пасьянс подобрал убитую сову и, угрюмо ее разглядывая, сказал:
– Крестьянский мальчонка такого бы не сделал. Это все дворянские забавы!
И уже с порога до нас донесся возглас, который вырывался у него в минуты больших невзгод и дал основание для его прозвища.
– Терпение, терпение![2] – воскликнул он.
Если верить кумушкам, в его устах это было заклятие, и всякий раз, как Пасьянс его произносил, с обидчиками его непременно случалась беда. Сильвен перекрестился, чтобы отогнать нечистую силу. Страшное слово прогремело под сводами башни, и дверь с грохотом захлопнулась.
Спутник мой так спешил улизнуть, что чуть не забыл меня развязать, а едва только успел это сделать, взмолился:
– Перекреститесь, Господом Богом вас прошу, перекреститесь, того и гляди – заворожит он вас; не то волки нас загрызут, не то, чего доброго, нечистая сила повстречается!
– Дурак! – воскликнул я. – Подумаешь, велика важность! А вот ежели ты, на свою беду, кому-нибудь проболтаешься о том, что случилось, я тебя удушу!
– Ох, сударь, как же быть-то? – с наивной хитрецой возразил мальчишка. – Ведь колдун велел мне все отцу с матерью рассказать!
Я замахнулся, чтоб его ударить, но силы оставили меня. Задыхаясь от ярости, от всего, что перенес, я был почти что в обмороке; воспользовавшись этим, Сильвен сбежал.
Когда я пришел в себя, я был один; никогда прежде не заходил я в этот незнакомый уголок Варенны. Вокруг было пустынно до ужаса. Весь день нам то и дело попадались волчьи и кабаньи следы на песке. Наступила уже ночь; до Рош-Мопра оставалось еще два лье. Ворота будут закрыты, мост поднят; если я не доберусь туда до десяти часов, меня встретят ружейными залпами. Можно было поставить сто против одного, что, не зная дороги, я не смогу за час пройти два лье. Между тем я скорее согласился бы тысячу раз умереть, нежели просить убежища у обитателя башни Газо, сколь бы милостиво он мне его ни предлагал. Гордыня моя уязвлена была сильнее, нежели плоть.
Я наугад пустился дальше. Тропинка без конца петляла; множество стежек пересекало ее то тут, то там. Перейдя через огороженное пастбище, я вышел на равнину. Здесь всякий след тропинки терялся. Наудачу перебравшись через изгородь, я оказался в поле. Была темная ночь, но даже при свете дня немыслимо было бы отыскать дорогу среди мелких крестьянских наделов, густо лепившихся по склонам, заросшим колючим терновником. Я разглядел наконец вересковые заросли; за ними шел лес, и мои чуть улегшиеся страхи возобновились; признаюсь, я до смерти боялся. Натасканный на храбрость, как охотничий пес, я был отважен на людях. Движимый тщеславием, при свидетелях я был смельчаком, но среди ночи, предоставленный самому себе, измученный усталостью и голодом, хотя голода я не чувствовал, взбудораженный всем пережитым, я поддался невообразимому смятению. Так блуждал я до рассвета. Я знал наверняка, что дядюшки встретят меня побоями, и все же мечтал о возвращении, словно в Рош-Мопра меня ждал рай земной. Не раз до моего слуха доносился – по счастью, издалека – волчий вой; кровь леденела у меня в жилах, и, словно действительность была недостаточно страшной, разгоряченное воображение рисовало самые фантастические картины. Пасьянса называли оборотнем, а вы знаете, что в оборотней верят в любом краю. И вот мне мерещилось, что страшный старик, оскалив волчью пасть, гонится за мною сквозь лесные дебри, а за ним несется голодная волчья стая. Кролики то и дело выскакивали у меня из-под ног, и от неожиданности я чуть не падал навзничь. Тогда, зная, что никто меня не видит, я начинал отчаянно креститься, ибо, притворяясь неверующим, я, конечно, в глубине души был одержим всевозможными суевериями, которые теперь пробудил во мне страх.
К утру я добрался наконец до Рош-Мопра. Переждав во рву, пока откроют ворота, никем не замеченный, проскользнул я к себе в комнату. И, коль скоро пристальное внимание моих дядей отнюдь не походило на неусыпную заботу, ночью никто не обнаружил моего отсутствия. Встретив на лестнице дядю Жана, я уверил его, что только встал; эта уловка оказалась удачной, и я на весь день завалился спать на сеновале.
V
Теперь я был в безопасности и с легкостью мог бы отомстить врагу; все побуждало меня к этому – хотя бы дерзостные речи, в которых Пасьянс поносил моих родичей, не говоря уж об оскорблении, нанесенном мне самому. Признаться в том, что меня подвергли порке, было невыносимо, а между тем стоило мне сказать лишь слово, и семеро Мопра мгновенно вскочили бы на коней, радуясь возможности проучить мужика, не платившего им никакой подати и достойного, по их мнению, виселицы в назидание прочим.
Однако дело не зашло так далеко: уж не знаю почему, мне непреодолимо претила такого рода месть, когда восемь человек нападают на одного. И хотя, обуянный гневом, я поклялся отомстить, меня удерживало какое-то чувство порядочности, которой я сам за собой не замечал. Возможно также, что слова Пасьянса, помимо моего ведома, пробудили в душе моей благодетельный стыд. Заслуженные проклятия, которые обрушивал он на дворянство, заставили меня, быть может, в какой-то степени проникнуться понятиями справедливости. Одним словом, то, что я считал дотоле проявлением слабости или предосудительной жалости, с некоторых пор стало представляться мне, пожалуй, чем-то более значительным и менее постыдным.
Как бы то ни было, обо всем случившемся я молчал. Я только поколотил Сильвена за то, что он удрал от меня и дабы неповадно ему было болтать о моих злоключениях. Горькое воспоминание о них уже заглохло во мне. Однажды, когда осень подходила к концу, случилось мне как-то вновь бродить по лесу вдвоем с Сильвеном. Незадачливый мальчишка постоянно льнул ко мне: только выйду я за ворота замка, а уж он, невзирая на грубое мое с ним обращение, не отстает от меня ни на шаг. Он защищал меня от нападок других мальчишек, утверждая, что я ничуть не злой, а только немного вспыльчивый. Сильвен принадлежал к тем кротким, безответным людям из народа, чье смирение питает гордыню и жестокость сильных мира сего. Так вот, мы расставляли с ним силки на жаворонков, когда мой деревенский паж, то и дело забегавший вперед, на разведку, вернулся и сказал:
– Вот как пить дать повстречался мне оборотень, да с ним еще и крысолов.
Услышав это предупреждение, я задрожал. Но злоба клокотала в моей груди, и я пошел прямо навстречу колдуну: возможно, что присутствие его приятеля, который был завсегдатаем Рош-Мопра и, как я полагал, должен был отнестись ко мне сочувственно и с уважением, придавало мне некоторую уверенность в себе.
Маркас, прозванный крысоловом, уничтожал крыс, куниц, ласок и других грызунов в жилищах и на полях всей округи. Благодеяния своего ремесла простирал он не только на одних берришонцев: ежегодно один-одинешенек пешком обходил он Нивернэ, Марш, Лимузен и Сентонж, навещая каждый уголок, где только у людей хватало ума оценить его по заслугам. Его радушно встречали всюду – и в замках и в лачугах, так как этим ремеслом, переходившим в его семье от отца к сыну, успешно и добросовестно занимались и еще поныне занимаются все в роду Маркасов. Круглый год крысолов был обеспечен кровом и работой. С такой же непогрешимой правильностью, как земля вращается вокруг своей оси, он в определенный срок снова появлялся в тех же местах, где был год назад, с тою же собакой и тою же длинной шпагой в руках.
Маркас был не менее занятен и в своем роде даже более забавен, нежели «колдун» Пасьянс. Унылый и желчный, он был высок, сухощав и угловат, с повадками, исполненными медлительной величавости и задумчивости. Разговаривать он не любил и на все вопросы отвечал односложно; тем не менее он никогда не отступал от правил строжайшей вежливости и, обронив словечко, почтительнейшим и учтивейшим образом прикасался рукой к краю своей треуголки. Был ли он таким молчаливым по натуре или же к благоразумной сдержанности вынуждало его ремесло бродячего крысолова, боязнь необдуманными речами отпугнуть кого-нибудь из своих многочисленных клиентов? Как знать! Маркас был вхож во все дома: днем перед ним раскрывались любые чердаки, вечером для него находилось местечко у любого кухонного очага. Ему было известно все, что делалось в округе, тем более что его задумчивый, сосредоточенный вид располагал к откровенности; однако он никогда не разносил сплетен.
Маркас, если хотите знать, меня поразил: я сам был свидетелем того, как родичи мои прилагали все усилия, чтобы заставить его разговориться. Они надеялись выведать у него, что делается в замке Сент-Севэр, у господина Юбера де Мопра, бывшего предметом их злобной вражды и зависти. И хотя дон Маркас (эту кличку он заслужил своими манерами и гордостью разорившегося идальго), – и хотя дон Маркас, говорю я, в этом случае, как и в прочих, оставался непроницаем, Мопра-душегубы всячески улещали его, надеясь вытянуть из него что-либо касательно Мопра-Сорвиголовы.
Итак, никому не дано было знать, какие чувства испытывает Маркас по тому или иному поводу; оставалось предположить, что он вообще не дает себе труда испытывать какие бы то ни было чувства. Однако видимое влечение к нему Пасьянса, который неделями сопутствовал крысолову в его скитаниях, наводило на мысль, что у Маркаса неспроста такой таинственный вид, что тут замешано какое-то колдовство, что не только длина его шпаги и ловкость пса способствуют столь чудесному истреблению крыс и ласок. Поговаривали тайком насчет чародейных трав, с помощью которых он выманивал из нор недоверчивых зверьков, но, поскольку это знахарство было всем на пользу, никто и не думал осуждать Маркаса.
Не знаю, наблюдали ли вы когда-нибудь такую охоту за грызунами. Она занятна, в особенности когда крыс ловят на сеновале. Человек и собака карабкаются по лесенке и с поразительной смелостью и проворством шныряют по чердачным балкам; пес, как кошка, почуявшая мышь, обнюхивает все дыры в стенах, делает стойку и выжидает в засаде, пока «дичь» не попадется на рапиру охотника, который то тут, то там протыкает снопы соломы и решительно истребляет врага; дон Маркас проделывал все это с подчеркнутой значительностью и важностью, и, уверяю вас, это зрелище представлялось столь же занимательным, сколь необычайным.
Завидев верного нашего слугу Маркаса, я счел возможным, презрев колдуна, отважно выступить навстречу. Сильвен глядел на меня с восхищением, да и сам Пасьянс, видимо, не ожидал подобной дерзости. Подчеркивая презрение к врагу, я притворился, что желаю говорить с Маркасом. Тогда Пасьянс легонько отстранил крысолова и, положив тяжелую руку мне на голову, спокойнейшим образом заметил:
– А ты, мой красавчик, подрос с тех пор.
Кровь бросилась мне в лицо. Я отшатнулся и высокомерно процедил:
– Поосторожней, мужик; помни, что если уши у тебя целы, ты обязан этим только моей доброте.
– Уши целы!.. – с горьким смехом повторил Пасьянс.
И, намекая на прозвище, присвоенное моей семье, добавил:
– Ты хочешь сказать, души у нас целы?.. Терпение! Терпение!.. Недалеко, может статься, то время, когда мужики у дворян станут не уши, а головы и кошельки резать.
– Замолчите, почтеннейший! – торжественно произнес крысолов. – Такие речи философу не к лицу.
– А ты, пожалуй, прав, – ответил колдун. – И в самом деле, с чего это мне вздумалось мальчонку бранить? Пожалуйся он своим дядьям, они бы меня живьем сварили: я ведь отстегал его летом за одну проделку. Уж не знаю, что там у них в семействе приключилось, но только упустили такой удачный случай ближнему насолить!
– Знай, мужик, – сказал я, – что человек благородного происхождения мстит по-благородному. Не хотел я, чтобы за мою обиду расквитались с тобою те, кто тебя сильнее; годика два подожди, и тогда – слово дворянина! – я повешу тебя собственными, руками на том самом дереве – уж я-то его сразу узнаю, – что перед входом в башню Газо. Это так же верно, как то, что я Мопра; а ежели ты добьешься у меня пощады, пускай тогда кличут меня оборотнем.
Пасьянс усмехнулся, но внезапно стал серьезным и устремил на меня глубокий взгляд, делавший его лицо столь примечательным. Обернувшись к крысолову, он сказал:
– Странное дело! Есть же что-то в этой породе! Возьми ты самого захудалого дворянчика, он, того и гляди, окажется куда отважнее самого храброго из нас. Э, да чего проще, – добавил он тихо, – так уж они приучены, а нам всё твердят, что мы, мол, рождены покорной скотинкой быть… Но… Терпение!..
С минуту он помолчал, потом очнулся от задумчивости и сказал с добродушной иронией:
– Так вам угодно меня повесить, милостивый государь Соломинка? Смотрите только, ешьте побольше, а то не дорастете до такого сучка, чтобы меня выдержал; впрочем, до той поры много еще воды утечет, то ли еще будет…
– Нехорошо, нехорошо, – с серьезным видом произнес крысолов. – Ну, да ладно, мир! Господин Бернар, простите Пасьянсу – старик ведь сумасшедший!
– Ну уж нет! Пускай меня вешает! – воскликнул Пасьянс. – Он прав, так мне и надо! А ведь, в самом деле, пожалуй, так оно и будет, прежде чем что другое произойдет. Не торопись расти, барчук: сам-то я уж слишком быстро старюсь, а ты такой храбрец – не захочешь ведь ты напасть на беззащитного старца?
– А ты разве на меня не напал? – воскликнул я. – Разве это не произвол? Говори, разве это не подлость?
Пасьянс развел руками:
– Эх! детишки, детишки! Ты погляди, как рассуждает! Устами младенцев глаголет истина.
И он удалился в задумчивости, по своему обыкновению бормоча себе под нос какие-то изречения. Маркас снял шляпу и, отвесив мне поклон, бесстрастно сказал:
– Он неправ… жить надобно в мире… в покое… прощать!..
Оба исчезли, и на этом мое знакомство с Пасьянсом оборвалось. Возобновилось оно лишь долгое время спустя.
VI
Мне было пятнадцать лет, когда дед мой умер. Особой горести смерть его ни в ком не вызвала, но обитателей замка повергла в совершенное уныние. Дед являлся вдохновителем всех пороков, процветавших в Рош-Мопра, и, однако, при всей своей жестокости он был менее подлым, нежели его сыновья. С кончиной деда угас и тот ореол славы, который стяжала нам его отвага. Сыновья, дотоле еще соблюдавшие какую-то благопристойность, теперь все больше превращались в пьяниц и распутников. К тому же набеги их с каждым днем становились все гибельнее для окрестных жителей.
С нами оставалась лишь кучка наших ленников; содержали мы их хорошо, и все они были преданы нам, но обособленность наша и отсутствие поддержки давали себя знать. Насилия, чинимые нами, привели к тому, что округа обезлюдела. Мы внушали страх, и с каждым днем ширилась пустыня, образовавшаяся вокруг нас. Приходилось поэтому делать все более далекие вылазки, до самых окраин равнины. Здесь превосходство было не на нашей стороне; в одной из стычек тяжело ранили самого смелого из нас – дядю Лорана. Мы вынуждены были искать других источников существования. Их придумал Жан. Ловко шныряя по ярмаркам под самым разным обличьем, мы стали заниматься кражами. Были мы разбойниками, а сделались ворами, и презренное наше имя все более покрывалось позором. Мы стакнулись со всякими темными личностями, укрывавшимися в провинции, оказывая им, а они – нам, мошеннические услуги; так нам снова удалось избегнуть нищеты.
Я говорю «мы», ибо по смерти деда и я примкнул к этой своре душегубов. Уступая моим просьбам, дед незадолго до кончины разрешил мне разок-другой принять участие в набегах. Итак, перед вами человек, чьим ремеслом был разбой. Но оправдываться я не стану. Воспоминания отнюдь не пробуждают во мне угрызений совести – ведь не испытывает же их солдат, проделавший поход под командой своего генерала. Я полагал, что мы всё еще живем в пору Средневековья. Сила и мудрость установленных законов были для меня пустыми словами. Я чувствовал себя отважным и сильным, я сражался. Правда, последствия наших побед зачастую заставляли меня краснеть; но, не пожиная их плодов, я тем самым как бы умывал руки и нынче вспоминаю с удовлетворением, что не раз помогал поверженной жертве подняться и бежать.












