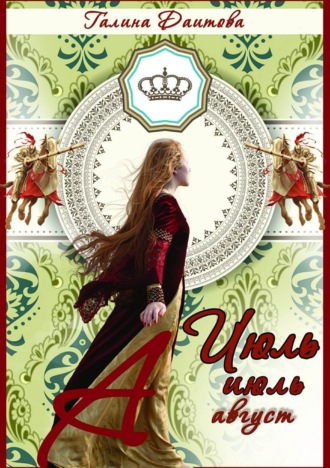
Полная версия
Июль, июль, август
– Может, вы и правы, милая Августа, ведь всё это произошло очень давно, когда мне было лет семнадцать – не больше. Я в те времена действительно натворил много разных глупостей. Кроме всех вышеперечисленных безумств, о которых я нынче поведал вам, были проделки и ещё похлеще: так, например, я пошатнул наш дом…
Я подняла на него глаза.
– Да, я думал, что смертельно влюблен в неё… ну, в ту прелестную особу, о которой я вам уже рассказывал, и имя которой для этой истории не столь и важно. И вот как-то раз я бродил по саду, думая о ней и о своей любви, и не мог найти себе ни занятия, ни места – сердце во мне колотилось и рвалось, и я от этого клокотания в груди был счастлив, беспомощен и, как тогда мне казалось, безмерно всемогущ. Да, я чувствовал в себе необъяснимые силы – я был так всемогущ, милая Августа, что это сделалось совершенно невыносимым в конце концов. Ведь человек не может быть слишком долго всемогущим. И я, чтобы избавиться от этой радостной, но опасной силы, приложил ладони к стене замка и чуть-чуть – клянусь, только слегка! – толкнул его. А он закачался, как будто был сделан из желе. Особенно долго тряслась крыша, с таким, знаете, особенным железным лязганьем, а потом оттуда посыпались старые грачиные гнезда – труха да пыль… Я испугался, что моя матушка станет меня ругать за то, что я раскачал замок – и убежал подальше от места преступления. Я стоял и всё никак не мог отдышаться – шутка ли: раскачать целый дом со всеми слугами, столами, креслами, кроватями и ночными горшками! Но облегчения от этой внезапной выходки не наступило, и ненужная сила меня не покинула. Она продолжала жить во мне, свернувшись острым и тугим жгутом прямо в моей груди. Надо было куда-то деть её. И мне пришла в голову совсем уж бесшабашная мысль: на этот раз немножко раскачать землю. Немножко. Ведь говорят, она движется всё время куда-то. И я подумал, что раз она движется, то ведь может и перестать двигаться. Если существуют силы, которые крутят и погоняют ее, то найдутся силы, которые ее остановят. Я пришёл в восторг от этой мысли: она казалась мне тогда не столько сумасшедшей, сколько озорной – схватить уезжающую из-под ног землю за холку да и подержать ее немного на весу просто так, чтобы земля упиралась когтями, скребла и щелкала хвостом, рвалась из ошейника прочь… И я вцепился в жирный и прохладный землин загривок, почти по самые запястья погрузил руки в зеленую траву, как в зеленую шерсть. Я зажмурился от натуги и потянул землю на себя, стараясь тянуть ее плавно, бережно, чтобы от случайного резкого толчка не рухнула бы вдруг старая колокольня… Что-то внутри земли, на которой я стоял на четвереньках, хрустнуло, лязгнуло, и земля тихо остановилась. Она замерла, дыша изнутри вспотевшими глубинными жабрами. Я видел, как несутся над уставшей за миллионы лет землей облака, как ветер удивленно облетает неподвижную землю, как тень на солнечных часах замерла на одном месте и больше не тронулась ни вперед, ни назад. Я держал землю, чтобы она немного отдохнула. Как тяжело работать земле! Сколько всего она несет и тащит на себе – и корабли, и луга, и шагающие полки солдат, и бальные вихри, и дрожащие кровати любовников… Несколько минут я всё это держал на себе – плечи земли обмякли, она порывисто и свободно вздохнула, слизнув зеленым языком столетний пот с вон тех дальних холмов… А по мне тем временем плыли корабли, качались луга, шагали полки солдат, гремели в уши бальные вихри, дрожали кровати любовников… Земное всеведение открылось мне – я знал, что где-то на левом конце земли зеленый кузнечик бесцветным своим брюхом припал к качающемуся листу, и так же ясно я знал, как на правом конце земли море рушит бурей прибрежный город. Одно мое плечо щекотали усы кузнечика, а другое обдавали брызги кровавой пены. И я понял, что тяжело быть землей не от того, что всего много на ней, а от того, что всё на ней печально… И когда в сердце прокралась эта печаль, которая и держит мир, сила моя иссякла. Я отпустил землю, и она одним скачком догнала саму себя, неукротимо и молодо качнув тополями – землиной челкой – и бросилась туда, в будущее, сгребя в пригоршню всех нас. Стрелка солнечных часов тоже метнулась вперед и ожила. Я, уставший до изнеможения, пошёл домой. И только придя в свою комнату, я заметил, что держу в кулаке полумертвого кузнечика – я тут же выкинул его в окно… Правый мой рукав был весь мокрый – кружева набухли и огрубели от тяжелой морской соли… Теперь я думаю, что, наверное, я перестарался тогда: всё затеянное мной слишком подточило силы ещё не окрепшей любви, и очень скоро моя влюблённость прошла и окончилась сама собой…
– Ты мне расскажи лучше вот о чём: что ты в конце концов ответила ему на все его откровения?– спросил Робин, видимо, уставший ждать конца этой истории.
– Ну, мы потом еще долго и о многом говорили,– уклончиво сказала я.– Мы говорили о том, что такое счастье и есть ли оно; о том, как и почему бог сотворил землю и какова мера грусти в любви и в просто жизни…
– И ты, конечно, во всём не соглашалась с ним, как обычно?
– Нет, не во всём, – покачала я головой.– Скорее, наоборот. Я почти во всём с ним соглашалась против своего обыкновения.
– Соглашаться с сумасшедшим – большой риск, – вздохнул Робин.– Пожалуй, зря я оставил тебя наедине с ним. Но он – совершенно не знаю как – что-то такое наговорил мне про тебя… Уж сколько раз я зарекался связываться с ним – и вот пожалуйста!
– А утром мы попрощались, и он уехал.
Я выходила его провожать. У ворот мы с Легницем в последний раз посмотрели друг другу в глаза. Верхний его глаз был менее грустен – наверное, потому, что глядел вдаль и видел то, что ждало нас впереди…
– Ну а что же всё-таки ты ответила ему, Августа?– ещё раз спросил меня Робин.– О чём вы с ним договорились? Согласись, я должен это знать, ведь так?
– И зачем вы всё время называете его сумасшедшим?– перебила я Робина.– Ведь на самом же деле вы про него так не считаете, да?
– Конечно, он не совсем обычный сумасшедший, не из тех, кого сажают под замок… Но, согласись, во всех этих его рассказах есть что-то по меньшей мере странное. Вот то, например, как умер бессмертным и любимым его дядюшка… Или – ещё больше – как сам он ворочал землю…
– Ну и что? Я не нахожу в этом ничего странного или заслуживающего насмешки,– нахмурилась я.
– Насмешки? Да упаси меня бог! Хотя теперь мне кажется – вы с ним действительно два сапога пара, как он и уверял меня!
– А я очень его понимаю,– упрямо вскинула я голову.– Однажды, тоже очень давно, когда я полюбила одного человека – не Оскара Легница, а другого…
– Следует ли из этих твоих слов, что Оскара Легница ты всё-таки уже успела полюбить?
Я медленно опустила голову.
– Ну что же, вот мы и добились некоторой ясности. Продолжай дальше, раз уж начала, а там, глядишь, выплывет еще что-нибудь интересное…– вздохнул Робин.
– Однажды…– почему я вдруг стала рассказывать это Робину, я не знаю, но из души у меня словно выскочила какая-то пробка, и слова сами собой стали выпрыгивать на язык, а уж удержать их там не было никакой возможности…– Однажды я собрала из всех шкатулок со всего дома все перстни и кольца, какие только были у моей матери, и надела их все сразу… А колец этих было так много, что пальцы мои перестали гнуться. Отец увидел меня в саду и, конечно, очень удивился моему виду. Я всё ему объяснила: «Это для того, чтобы золото держало мои руки. Если всё снять, то руки потянутся вверх, и я сама, в конце концов, улечу туда… Ничего не могу с этим поделать, но я так чувствую… А в туфлях у меня лежит по три монеты – по три очень тяжелых, очень тяжелых, папа, монеты. Хотя скоро, наверное, и это перестанет меня спасать. Дойди до дела, и меня вытянет ветром прямо из туфель, босую, в небо…» Да, меня тянуло туда, вверх. Я до сих пор помню и никогда не забуду этого чувства… Блаженный ужас охватывал меня при мысли о том, что я вполне могу взлететь, подхваченная, например, ветром, которому, как известно, всё всё равно. Я стала тонка и несуществующа для самой себя – и да, от ветра мне была большая опасность – мне, ставшей легкой, как чертополоховый пух, с тех самых пор, как сладкое любовное блаженство кольнуло меня в грудь тонкой серебряной иглой счастья… Подул ветер, и я схватилась рукой за ветку сирени, чтобы меня не унесло с земли. Отец и удивился моим речам, и испугался. «Тебе плохо, Августа?»– спросил он. «Н-нет… Нет, конечно,– ответила я и, не удержавшись, снова покачнулась – так, что тонкая сиреневая ветка хрустнула у меня под пальцами.
– Да что же это такое!– воскликнул отец, взяв меня за руки.– Иди приляг, я привезу к тебе лекаря.
– Не надо лекаря, папа. Уже всё прошло,– поспешно сказала я и нашла необходимым солгать:– Я забыла с утра позавтракать, и теперь у меня немного закружилась голова.
Я ему солгала. Голова у меня совсем не кружилась, только немножко поднималась вверх… Всё началось с подбородка – мне хотелось смотреть всё время в небо… вернее, в то, что от него осталось. Ведь небо недавно исчезло – примерно тогда, когда к нам приехал милый Освальд…
Отец всё-таки заставил меня лечь в постель и вызвал ко мне лекаря – Мариуса, который тогда еще только начал заниматься лекарским делом и был не очень опытен в лекарских уловках, но зато жил неподалеку – в Мюрццушлаге – и мог приехать к нам скорее любого другого врача.
Когда приехал Мариус, я услышала его голос и немедленно притворилась спящей, чтобы бесполезный лекарь как-нибудь поскорее убрался бы восвояси. Моя хитрость сработала, и отец не повёл его ко мне. Они довольно долго стояли на лестнице перед моей комнатой, и я слышала, как отец, хорошенько прикрыв дверь, спрашивал у него надтреснутым от волнения голосом:
– И что теперь мне с этим делать?
На что Мариус, понизив голос до свистящего шёпота, ответил, разведя руки в стороны (я слышала, как он развёл руки, и слышала, как он покачал головой):
– Лекаря не лечат от любви. И слава богу, что не лечат. Не думайте, пожалуйста, что она сошла с ума, хотя именно так вам, наверное, и думается теперь. Будьте спокойны: Августа знает, что небо, скорей всего, на месте – для вас, для меня и для всех остальных. Ведь было же оно на месте всё время до того, как она полюбила этого злополучного Освальда! Но всегда кто-то где-то кого-то любит, и кто-то теряет свои следы, а небо – этот спокойный потолок – всё-таки как-то держится, цепляется там за что-то своё и не сваливается никому на голову. И она, понимая это, спокойна за мир, за то, что всё будет как надо и как всегда – а это значит, что она не сошла с ума. Ведь сумасшедшие, как правило, очень переживают за мир, как там и что с ним происходит, хотят как-нибудь покрепче приколотить небо к небу, чтобы оно не дай бог навсегда не исчезло бы куда-нибудь, и от этого беспокойства сходят с ума еще больше… Ну а у Августы детское сердце меняется на взрослое – только и всего. Вместе с сердцем меняются мысли и глаза. Это у всех бывает как-нибудь по-непонятному. У неё, по-видимому, глаза поменялись на немножко быстрее, чем мысли: она смотрит на мир уже взрослыми глазами, но еще не понимает, что там видит – а детские мысли подсказывают ей всякую чепуху, которой она пока ещё верит, но верит не совсем по-настоящему, понимая, что что-то здесь всё-таки не так и что скоро всё должно стать на свои места – старые или новые.
– И как долго ждать, пока всё образуется?– снова спросил отец, видимо, не очень охотно принимая мнение такого молодого и пока слишком уж недолго занимающегося своим делом лекаря.– Как долго ждать, пока они догонят друг друга – её глаза, мысли и сердце?
– На это трудно ответить что-либо определённое,– развёл руками Мариус.– Но утешайтесь тем, что рано или поздно всё это пройдет…»
– Так что любовь – болезнь довольно распространённая, – закончила я свой рассказ.– И даже с вами, Робин, такое было, ведь так?
Робин медленно покачал головой.
– Я никогда не двигал землю,– уточнил он.
– И вас не сметал в небо ветер?– осторожно спросила я, глядя в его кажущиеся такими спокойными глаза.
– Меня не сметал в небо ветер,– подтвердил Робин.
– И небо над вами…
– Нет, не исчезало. Оно всегда было на месте.
– Ну тогда я не знаю, как вам всё это удалось. Или ваше сердце поменялось одновременно с вашими мыслями и глазами, и именно поэтому вы, Робин, действительно существо совершенно другое, чем, например, мы с Оскаром Легницем?
– Просто дело в том, Августа, что у всего этого есть и иная сторона,– ответил Робин, и глаза его потемнели, сделавшись чернее и глубже,– противоположная, понимаешь? То есть совсем другая. И эта другая сторона обратна тому любовному всемогуществу, которым красноречиво похвалялся перед тобой Оскар Легниц. Это то, что делает из человека никому-никто… И однажды,– продолжал Робин,– уж если ты спросила меня… (я ни о чём его не спрашивала, но перебивать не решилась) …однажды дело обернулось так, что на одном давнем турнире твой Оскар Легниц вышиб меня из седла… Правда, тогда он еще не был твоим – это было лет двенадцать назад, и он был и оставался ничейным: ты еще играла в куклы, а не в любовь… И вот, Оскар Легниц вышиб меня из седла. И если расспросить его хорошенько, то он, наверное, до сих пор гордится этим вот шрамом на моем запястье…
Я слегка дотронулась кончиками пальцев до глубокого коричневого шрама на левой Робиновой руке. От времени он почти ушел под кожу, но всё еще был виден.
– От того удара,– продолжал Робин, темнея глазами,– мой щит затрещал, как тростниковая свирель. Наверное, ни одна вмятина на каленом железе не вызывала такого дикого рева на трибунах! Железо щита стонало у меня в руках и исходило каплями искр. Раны железу – настоящие, смертельные раны – нанести труднее, конечно, чем слабому человеческому телу… Вдоль щита от Легницева меча пролегла глубокая борозда. Я видел сто раз, как выбивают щиты из рук или как их раскалывают пополам, точно гнилой орех. Но мой щит – это же был мой щит! – невозможно было расколоть, он был крепче мироздания… И вот Легниц совершил невероятное. Одним взмахом своего меча он согнул мой щит надвое, выбив на его сверкающем лбу глубокую, как старость, морщину. И щит, не вынеся напряжения смерти и позора, стал сворачиваться толстыми железными краями к продавленной середине, как сворачивается сухой кленовый лист на осеннем солнцепеке… Щит хрустел у меня в руках и морщился, он шевелился с тихим, мертвым скрежетом… Смерть щита – это почти смерть мира. Потом, позже, мир умирал для меня много раз, но тогда это было в первый раз. Сейчас-то я понимаю, что заслужить хорошее поражение так же трудно, как хорошую победу. И то поражение было как раз таким, от которого получаешь больше, чем от иной победы: силу держать удар под гнущимся над головой извечно-прочным, как пустота, щитом неба… Всё так случилось, потому что не приехала она – не приехала впервые. Место в нашей ложе было пусто. Я ждал до последнего, но ее не было. Она так и не появилась. Сам король, изогнув бровь, косился на ее пустое кресло. Шепот, пущенный старыми сплетницами, пробегал по пестрым трибунам, как озноб. Я даже на мгновение прикрыл глаза рукой, чтобы не видеть пустоты нашей ложи, но тут же шепот взвился надо мной, как плетка, и я заставил себя взглянуть туда снова, в море пестро и ярко разодетых женщин на трибунах, женщин чужих и залитых солнцем до неузнаваемости… Её не было. Ее отсутствие было заметно, как отсутствие священника на отпевании… Когда меня привезли с турнира домой, ее тоже не было. И это уже было больше, чем оскорбление – это была печаль, столь же нестерпимая, сколь и заслуженная. После ставшего знаменитым удара Оскара Легница я очень долго не мог шевелить рукой – той самой, сжимавшей щит. Искореженное железо впилось, как вросло, в согнутые пальцы, сдавило и расплющило кисть до отчаянной и нестерпимой, как неудача, боли. Накаленным на огне ножом лекарь в нескольких местах надрезал мою кисть, чтобы вынуть руку из вбитых в нее железных обломков. Это был самый опытный костоправ – король среди костоправов. Он трудился над моей рукой почти сутки, не разгибая спины, трудился упорно, медленно, как кружевница над собственным приданным, и пот лился ему за уши. Он складывал раздробленные под кожей косточки моих пальцев, связывал их сухожилиями и перекладывал с одного места на другое, нужное, не обращая внимания на мои ругательства и затрещины. В конце концов он приказал меня связать, и я мог только, разве что, скрежетать зубами да исходить коричневым от боли потом… Но надо отдать ему должное: он вылепил мою руку заново, вернув каждой косточке изначально полагавшееся ей место. Остался, правда, шрам – рана, нанесенная мне собственным щитом… С тех пор мои пальцы потеряли гибкость и почти лишились чувствительности. Для боя это было всё равно, если даже не к лучшему… Но я провел пальцами по ее волосам – и не ощутил ничего, будто прикоснулся к воздуху. Дрожь пока неведомого мне ужаса всколыхнула мне душу. Я прикасался к женщине, которую не чувствовал, которая становилась пустотой, призраком, криком. Я стал постепенно терять тепло ее кожи, мягкость ее шеи… Даже ее губы казались мне безвкусными, как постоявшая вода. Я терял ее. Она растворялась в воздухе всё вернее с каждым днем… Я заметил, как она поморщилась, когда я однажды дотронулся до ее обнаженной груди своими немыми пальцами. Она натянула одеяло на плечи и отвернулась. Наутро я уехал из дома. Меня очень долго не было тогда. Может быть, почти полгода. Но когда я думал о доме, я видел перед глазами женщину, тянущую на плечи одеяло, чтобы одеяловый шелк смыл с нежной кожи неловкое и ненужное прикосновение деревянных пальцев. Моя душа глохла к ней. Терять добытую из жизни женщину – всё равно, что терять теплый дом, построенный под дождем…
– Это ваша жена, Робин? Да?– тихо спросила я, перебив его, не выдержав внезапной, странной муки сопричастности чужому горю, так неожиданно ворвавшемуся в мою любовную безмятежность…
Я осеклась и виновато взглянула на Робина – он уже был в дверях.
– Да,– ответил он издалека.– Если теперь про нее можно так сказать.
– Вы… вы зря уехали тогда,– крикнула я ему вслед.– Надо было остаться. Уходить всегда хуже, чем оставаться.
– Остаться?– Робин снова шагнул ко мне из разинутой дверной пасти.– И зачем остаться?
Два огонька от одной свечи, тихо горевшей у меня в руках, застыли в его почти невидных из-за темноты глазах.
– Зачем остаться?– повторил он, глядя поверх моей головы.– Чтобы терпеть ее упреки? Она одна умеет делать так – молчать, скосив глаза в сторону… Или еще запрется у себя и сидит там у окна, не гася свечку ночь напролет… А с утра выйдет с поджатыми губами и снова весь день молчит… А в глазах – темнота какая-то, и в этой темноте не видно ничего – только лес и ворота, ворота и дорога, дорога и лес…
Я отвернулась. Что-то непонятное большой и смутной тенью прошло мимо меня. Я поежилась и покосилась на Робина:
– Ну пусть упреки,– сказала я в сторону,– пусть что угодно, лишь бы вместе. Это самое главное, что вместе, – ведь вы вправду любили ее…
– А если не вправду? – перевел на меня свой темный взгляд Робин. Из двух свечей там не осталось ни одной.– А если я изменил ей? Да так, чтобы она сама узнала об этом! Чтобы наверняка узнала, как я переспал с одной из ее служанок…
– Пере… пере-что?– я стукнулась головой о кроватную спинку.
– Ничего,– он вышел из комнаты, хлопнув дверью.
– Боже мой, боже мой!– я покачивалась, сидя на кровати и сжав ладонями виски.– Видимо, я что-то не то сказала, что-то не то! И пусть тогда Робин простит мне это, ведь влюбленные – такие, как я – ничего не понимают, ничего не знают и не помнят, кроме своей любви…
Я сидела и думала, как бы мне к этому привыкнуть – к тому, что я опять влюблена. И можно ли вообще к этому привыкнуть? Я надеялась, что можно, только вот пока еще непонятно, как.
Я вспомнила о Робине, который только что вышел… Или вышел три дня назад. Мне стало немного стыдно от того, что я могу быть так безмятежна и так… да, кажется, так счастлива, когда кругом столько печальной, нерадостной жизни, столько горя, может быть, столько войны… Но даже слово «война» перестало казаться мне страшным, оно лишилось того грозного смысла, каким наполнено было раньше, оно вообще перестало быть наполненным хоть каким-нибудь смыслом – как, впрочем, и все остальные слова, удаленные от моей любви… Война стала казаться мне маленькой, размером с носовой платок и даже еще меньше, мельче и ничтожнее. Она превратилась для меня в почти несуществующую малость. Точно такой же малостью стали люди – чтобы обратиться к ним, рассмотреть их, надо было приложить такое усилие, что у меня не всегда хватало на это воли. Например, бедный Робин был мал, как горошина – не знаю, заметил он это или нет по тому, как я щурюсь каждый раз, глядя на него, и всё равно с трудом его различаю, оборачивая голову только на звук его голоса, тоже неясного. Я не видела его лица и почти не понимала его слов, обращенных ко мне, но трудилась его замечать ради него самого – ради своего былого к нему уважения. Я говорю «былого», потому что теперь я, признаться, довольно плохо представляла себе, что такое «уважение» – такой же бессмысленный набор звуков из прошлой жизни… Еще немножко, еще несколько дней – и я, чего доброго, действительно начну забывать и путать слова и мысли из-за незначительности и ненужности для моей Любви того, что стоит за ними:
– Госпожа Августа,– спросят меня.– Что прикажете сегодня на обед?
– На обед?– почешу я лоб.– Пожалуй, немножечко… хм… как это… уважения. Да, только смотрите, не пересолите всё это, как в прошлый раз.
– Слушаюсь. А чего изволите на ужин?
– Ничего. Вечером я уезжаю навестить Мариусову сестру Роззи в Мюрццушлаг. Скажите… этому… как его… кучеру, чтоб запряг мне… чтоб запряг… ну, вы знаете… чтоб запряг войну. И пусть покормит ее хорошенько – доехать быстрее в Мюрццушлаг до вечера…
На миг я вдруг ужаснулась самой себе, собственной бессердечности. Маленький Робин, маленький мир, маленькая война… И вернувшийся на короткое время рассудок сказал мне, что я безвозвратно и гибельно впадаю в любовное оцепенение, в тяжелое и сладкое любовное небытие.
Еще неделю назад я, помнится, плакала… О, как я плакала! Я горевала о чем-то… Нет, о ком-то. О ком-то. Слезы из меня лились такие едкие от горя, что кожа на щеках сморщилась, как кожура финика… По ком же я тогда так плакала? Ах, да. Убили брата Мариуса, Филиппа… И я плакала. Помню еще, мне очень было жаль Карлу, Филиппову жену, которая не выдержала горя и сошла с ума – она билась об стену так, будто хотела размозжить себе голову… Старая Хелена была там же, она удерживала Карлу, и та покусала ей руки… Господи, как легко бросить всё это! А тем более ради любви. Как хороша любовь по сравнению со всем этим!
И забывая о Филиппе, о Карле, о Бернане и других, я, конечно, не предаю их. Конечно, нет… Конечно, да! Ну и что? Им и со мной, и без меня одинаково плохо. И будто мне легко было забыть их! Я, может, о них вовсе и не забывала – вот думаю же я о них теперь. Думаю о них, о безногом Бернане, которому ядром оторвало обе ноги, о пропавшем без вести Мариусе, о… обо всех! Я думаю о них, будто не о чем мне больше думать!.. А как трудно мне о них думать, кто бы знал!
И если меня спросят когда-нибудь, почему же я всё-таки забыла о них, я скажу… я скажу… Что же я скажу?.. А кто будет спрашивать? Кому есть до меня дело? Никто не будет спрашивать!.. Хотя, например, Бог. Да, он может… Как же я сразу о нём не вспомнила… Сначала он вынет у меня из сердца мое сладкое любовное блаженство, которым, как длинной серебряной иглой, недавно кольнул мне душу… И что я скажу ему? Ах, не всё ли теперь равно, что я скажу! А может, сказать всё как есть? Сказать, что… что женщина не предавшая – женщина не любившая. Сказать? Никто ему, наверное, так не говорил, он удивится или рассердится. Любовь – это особая, отравленная сладким ядом восторга, воли и всемогущества, разновидность смерти. Это потеря мира, его забот, его тяжести, его печалей – ведь наш мир именно таков. Потерян мир – потеряна неизбежная и неостановимая боль существования в этом мире… О, как я плакала тогда, и слезы были такие жуткие, как финики… Спасибо тебе, господи, за то, что ты придумал нам любить. Любовь – маленькая смерть, смерть ненавсегда – да и не моя смерть, а мира. Какого-то там мира! Ну и в чем же здесь грех? В чем, Боже, грех? Скажи мне, если сам знаешь!
– В чем грех?– переспросил Робин.
Я вздрогнула. Он стоял рядом. Я не видела, как и когда он вошел. Я уже третий день перебирала пух в старых перинах, притащенных Мартой с чердака. Я сидела прямо на полу, подогнув под себя ноги, и не торопясь, день за днём, шевелила пальцами слежавшиеся перья, пересыпая их из одной пригоршни в другую и раскладывая возле себя маленькими неподвижными холмами. Я сидела здесь уже третий день, дышала пылью, чердаком и старыми перьями, и эта моя работа не двигалась ни туда, ни обратно – только пух стал поскрипывать у меня на языке. Я сидела, думала и не заметила, что, наверное, стала говорить вслух. В голове моей от долгих дум как-то, видимо, истерлась перегородка между словами и мыслями, и мысли стали сами собой стекать на язык…

