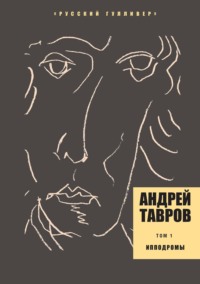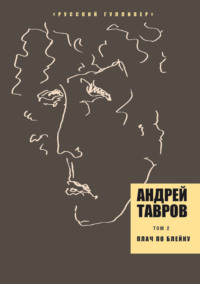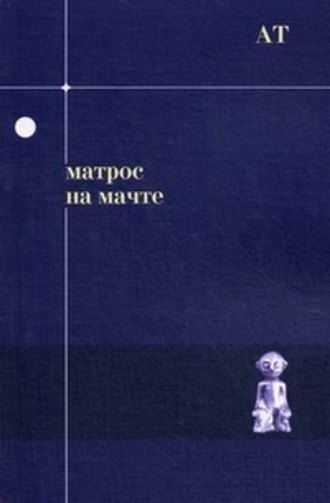
Полная версия
Матрос на мачте
Я сижу здесь, в темном прохладном баре, обдумываю нашу семейную сагу (интересно, а может быть, мы каким-то боком действительно в родстве и с философом Соловьевым, во всяком случае отец заговаривал пару раз на эту тему, сейчас ведь модно составлять все эти генеалогические дворянские таблицы, хотя половина из них липовая, но отец в этом хорошо разбирается, тут он специалист высокого класса), и я уже выпила пепси-колу со льдом и перешла на кофе. Кондиционер гонит струю холодного воздуха прямо в прореху на моей коленке, а напротив сидит какой-то мулат или цыган в черной рубашке, а на столе перед ним – бокал мартини и меховая рукавица, в которой горит лампочка. Я давно к нему присматриваюсь, а он – ко мне. Но со стороны никто этого не заподозрил бы, клянусь. Я-то теперь присматриваюсь ко всем нестандартным мужчинам в надежде, что это, может быть, и есть тот, кто называет себя Шарманщиком, а он, наверное, присматривается ко мне, потому что я ему понравилась. Я всем мужчинам нравлюсь, и даже чересчур. Меня это утомляет. Я иногда специально сгибаюсь в три погибели, когда иду по улице, – так они думают, что я калека, и меньше пристают.
Цыган
Мы гуляли с ним полчаса по набережной вдоль моря, и он рассказывал о себе, и я решила, что нашла Шарманщика, но все же до конца не была уверена. А спрашивать прямо я не стала – зачем пугать человека раньше времени? Ох и красавец же он был – весь смуглый, высокий, в вельветовых брюках и похож на цыгана.
На набережной здания кафешек стояли бок о бок, из каждого гремел мертвый женский или мужской голос, все вместе было ужасно. Я вспомнила Шарманщика с его театром и ударила ногой в пол. Я ясно услышала, как под сценой отозвался и завибрировал низким эхом медный кувшин.
Я поняла, что теперь изображаю святыню, что я и есть святыня – икона среди пустого мира, а вернее, что я и есть этот пустой мир за каким-то небольшим вычетом упорядоченной материи, которая плавала в виде молодой девушки в рваных джинсах в этом эфемерном мире, таком красивом и хрупком. Я даже почувствовала, как от этой хрупкости и печали мне наворачиваются слезы на глаза, а потом вспомнила, что в театре Но нет женщин-актеров, а значит, теперь я мальчик или существо, которое соединило в себе два пола.
На языке жестов, пользуясь ладонью как веером, я спросила у цыгана, почему в его рукавице горит свет. Он же предпочел остаться среди зрителей и поэтому отвечал мне не жестами, а бытовым своим, не выхваченным из потока суетной и обманчивой жизни языком: «Это кокон». Тогда я спросила его, чуть изменив положение руки, откуда там свет. Он улыбнулся и сказал: «Это не моя рукавица. Когда я вошел, она лежала на столике. Я поэтому за него и сел. Внутри работает маленький фонарик. Наверное, он греет кокон или еще что-нибудь, не знаю».

Потом мы оказались в ночном клубе, в этой мертвенной синеватой подсветке, от которой зубы светятся по-разному, и видно, какие свои, а какие вставные, потому что от подсветки они становятся разного цвета. На сцене играл джазовый оркестр, и толпа мальчиков-девочек пыталась потанцевать под музыку, но у них ничего не получалось, потому что это не попса, а джаз. Еще я забыла сказать, что мне было страшно. Мне было страшно, когда он подошел ко мне в баре, и когда мы гуляли, и здесь, в клубе, мне тоже было страшно. Это я только с виду бесстрашная, а если вдуматься, то, наверное, нет такой вещи, которой я бы не боялась. Я боюсь машин, ножен без клинка, карт, купюр в пятьдесят долларов, голых женщин, но не всех, а незагорелых, стоять на краю платформы и состариться. Я боюсь, что не прочту самой главной книги, боюсь запаха шпал, очень боюсь смотреть на украинское сало. Еще я боюсь пластилина и отверстий для пальцев в ножницах. Поэтому я никогда не стригу ногти ножницами, а пользуюсь специальными серебряными щипчиками. Еще я боюсь манекенов и ампутированных пальцев, вернее, обрубков на руке. Я не боюсь смерти и ран. Я не боюсь голода и любви. Но я боюсь, что меня нет. Иногда я думаю, что мне нужно найти человека для того, чтобы перестать бояться и понять, что я на самом деле есть на свете. Потому что я почти уверена, что меня нет, и это самый большой мой страх. С ним может сравниться только еще тот, что меня и потом не будет. Никогда не будет. И вот тогда я думаю, что если найду Шарманщика, то, возможно, мы сумеем однажды так обняться, что после этого уже будем всегда. И станет совершенно ясно, что я есть, потому что есть он, и мы всегда были, как собаки, например, или камни, или ветер. А сейчас мы стоим в толпе, и я думаю, Шарманщик Цыган или не Шарманщик. Хорошо бы он был Шарманщиком, но он, кажется, слишком для этого красив. Вот если бы рукавица была его, то тогда он мог бы быть Шарманщиком, но рукавица-то не его. Хотя не случайно же он сел именно за столик с рукавицей, значит, она его заинтересовала. В общем, у него есть шансы.
Потом мы сели за освободившийся столик, и мне пришлось протискиваться в щель между стеной и его краем так, что я его чуть не опрокинула – такая была теснота. Я сказала Цыгану: расскажи про свою жену. А он сказал: «Мы не успели пожениться».
Тут к нам протиснулась официантка, высокая такая девица с наклеенной улыбкой и ногтями в серебряных звездочках, и Цыган заказал текилу. А мне он заказал мороженое и вино. Оркестр неожиданно заиграл Summer time, мою любимую. Я даже вздрогнула – сто лет ее не слышала. С того самого вечера в школе, когда мы с Настей вдруг поцеловались. Непонятно, что на нас тогда нашло. Но это было приятно.
– Мы не успели пожениться. Мы целый год встречались, а она только потом сказала: давай поженимся. Она была красивая, как ты, и у нас был отличный секс. Наверное, мы бы поженились, хотя мне было все равно. Как-то в таком же вот месте, как здесь, ей стало плохо. Она до этого все выходила в туалет, я думал, у нее что-то с животом, и только потом понял, что она там делала. В общем, у нее был передоз, а я думал, что она просто напилась. Я сам был пьяный и с трудом донес ее до джипа. Там я положил ее на заднее сиденье. Не сразу. Сначала я посадил ее лицом ко мне, спиной вовнутрь, и она откинулась на сиденье, как исчезла, и только ноги в туфлях торчали. Белые как молоко. Я их сгибал, чтобы закрыть дверцу, но они разгибались и вылезали по очереди наружу. Тогда я залез в салон с другой стороны и подтянул ее внутрь. Потом снова вышел и закрыл дверцу. Я повез ее к ее родителям. Они меня не любили, и я не хотел с ними встречаться. Лифт не работал, я понес ее на шестой этаж на себе. Потом узнал, что нес ее уже мертвую. Я посадил ее у дверей и нажал на кнопку звонка. Когда спускался вниз, оглянулся. Она сидела в одной туфле, вторую мы где-то потеряли. Лицо у нее было несчастное, обиженное. Я потом часто думал: кто это ее успел обидеть? Но теперь уже, ясно, не узнать. Такие дела.
Он помолчал и добавил:
– У меня был один приятель, который как-то привез свою девчонку к себе, еще ее и трахнул и только на середине понял, что она не дышит. Но он все равно в нее кончил, не смог остановиться.
– Зачем ты мне это рассказываешь?
– Ты же сама просила. Ладно. Теперь ты расскажи.
– Ты не Шарманщик.
– Нет, не шарманщик. И не вышибала, и даже, к слову, не матрос.
– Вот это ты правду говоришь.
– Любишь матросов, как все девочки?
– Люблю. Только девочки не матросов любят.
– А что любят девочки?
– Сам знаешь, что они любят. Чтобы ими восхищались. Потому что боятся, что вдруг у них ничего такого не окажется, чем можно было бы восхититься. И тогда все, конец песне.
– И ты боишься?
– Нет, я не боюсь. У меня песни из других слов. Не из вашего алфавита.
– Все так говорят. Держи рукавицу, дарю.
Я взяла рукавицу и засунула за пояс. Там внутри по-прежнему что-то светилось, и от этого моему животу стало тепло и уютно. Я хотела еще что-то сказать по поводу алфавита, но потом подумала: а зачем? Чтоб меня снова за дурочку приняли? Нет уж, хватит с меня откровенностей.
Я выпила еще, а потом мы поехали к нему в гостиницу, в номер, и там снова выпили. А из второй комнаты вышел его приятель, и они вдвоем стали меня раздевать. На мне и так-то было не много. И тут мне стало так страшно, что я почувствовала сплошной лед и ужас внутри и от этого слевитировала. Просто внезапно поднялась в воздух на метр и застыла. Сама не знаю, как это получилось. Я видела, что от меня идет холодный, как в ночном клубе, свет, и от этого в комнате стало светло и призрачно. Так я и стояла в воздухе, и меня такой колотил озноб, что зубы лязгали, а кожа и вставшие дыбом волосы светились как мел. Я это хорошо помню, потому что была напротив зеркала. Я, кажется, все время кричала, но голоса слышно не было. Я видела в зеркало полоску голубых трусиков над расстегнутыми джинсами и как из глаз как будто летит туча моли. Такое было с одной моей подружкой, когда ее чуть не изнасиловали в лесу, но я тогда ей не поверила.
Я опустилась на пол и увидела, что описалась. Я подняла с пола рукавицу с фонариком внутри, футболку, натянула на себя и заплакала. Те двое давно убежали, и я спустилась по лестнице в холл. Я все время плакала и не могла остановиться. На тех ребят я не сердилась. Они были ни при чем, хотя и скоты, конечно. Они, наверное, решили, что я колдунья или вампирша. Не удивлюсь, если они тоже намочили брюки.
На улице бил фонтан, и в нем плавали золотые рыбки. Я залезла в него, и мне стало теплее. Я чувствовала, как они тычутся мне в ноги, потом опустилась в воду с головой и стала с ними разговаривать. Одна подплыла совсем близко, куснула меня за мочку уха и тихо сказала: «Как никогда, как всегда». Кажется, это был слоган из рекламы сигарет «Мальборо». Хотя, какая разница. Правду о себе иногда можно услышать и от глупой рыбы, и с рекламного щита.
Цементный завод
Я шла мокрая по улице, и на меня оглядывались. Терпеть не могу, когда на меня оглядываются. Терпеть не могу всех этих загорелых болванов, которые думают, что вершина удачи – это коттедж на Рублевке или попасть на телевидение. С утра они все, как один, озабочены, как побриться так, чтобы щетина торчала ровно на три миллиметра, и еще какую бы девку им вечером трахнуть, и каким парфюмом от них пахнет, и куда припарковать на подъезде к ресторану свой танк, предназначенный для путешествий по пустыне Гоби, а не по курортному городку. Но им это все равно. Им вообще все все равно, кроме деньги-трахнуть-прокатимся-сделаю, босс. Я как-то давно даже дружила с двумя такими явлениями природы. Один начал разговор прямо на улице – подарил букет роз, и первой фразой его было «Я очень богатый». Я сказала, что я тоже, и пошла дальше. Но он не отстал, и мы с ним потом еще какое-то время встречались, но мне это скоро надоело. Бог ты мой, да он в конце концов предложение мне сделал, вот до чего дошло. Но я сказала, что я несовершеннолетняя. Вообще-то я не люблю говорить на эту тему, но надо же было как-то вежливо отказать. А потом он позвонил мне совершенно пьяный и лепетал запредельные слова. Мне его даже жалко стало. Я чуть было не предложила ему встретиться прямо сейчас, прямо на улице у моего дома, под дождем, но, слава Богу, удержалась. Вспомнила все наши разговоры до этого и удержалась.
Мне кажется, все они боятся. Они боятся однажды узнать, что все, что они делают, – деньги, дачи, карьеру, вклады в банки за границей, острова в океане и бизнес на Канарах – что все это гроша ломаного не стоит. Что самое главное не на той дороге находится. Поэтому они все такие заученные, такие напряженные, наши русские Пети и Вани, и все куда-то бодро бегут, и по телефону на бегу разговаривают, как Джоны и Майклы в Нью-Йорке. Знаете, чего они больше всего боятся? Что однажды, когда они бегут куда-то по своим делам, подойдет к ним их босс в черном костюме и цепью на бычьей шее, который их и посылает на их дела, и будет он при этом непривычно печальным, грустным таким будет, с прозорливым таким, ясным, усталым и умудренным взглядом. Остановит он их забег, возьмет за пуговицу, вздохнет печально и скажет: «Заканчивай, брат! Кончай на хер беготню. Все это отстой, поверь мне. Не то нам нужно от жизни, брат, не то. А нужно нам, брат, от жизни белой ромашки да ангельской песни, и больше ничего нам от нее не нужно». И тут у босса полезут черные крылья из-за спины, а морда станет грозной и честной-честной до невозможности. Такой станет честной, что никак нельзя будет ему не поверить. И вот этого-то шока никому из них не пережить. И когда они видят такое во сне, они кричат так, что весь дом просыпается, думая, что кого-то режут, вся гостиница. Я сама слышала.
Я была вся мокрая и решила, что теперь заболею и, может быть, даже умру. Я зашла в какую-то кафешку под пальмой с мигающей световой вывеской без одной буквы и выпила там чаю, стоя рядом со стойкой. Я вытащила из брюк сотовый. Он, как ни странно, работал. Я хотела кому-нибудь позвонить, но, когда на дисплее загорелся список имен, выяснилось, что звонить некому. Тогда я вспомнила, что я маленький остаток в мире вечности, и стала разглядывать пальму через окно.

Сломанная световая надпись над входом мигала и потрескивала, и верхушка лампы от этого словно тряслась в бледно-синем неживом свете. Было слышно, как где-то за черными кустами барбариса, в глухой тени, стучат биллиардные шары, а вообще было на удивление тихо. Я и не заметила, как забрела на какие-то окраины. Я положила рукавицу на стойку бара и стала смотреть, как она там, внутри, светится. Рукавица была сухой, потому что, когда я полезла в фонтан, я положила ее на бордюр. А странно, что я ее там не забыла. Наверное, не судьба. Вот будет потеха, если в ней действительно кто-то выведется. Бабочка какая-нибудь или, к примеру, змея. Так я и стояла напротив зеркала с бутылками и смотрела то в него, то на рукавицу. А за окном, отражаясь в этом же зеркале, вибрировала в свете пальма.
Потом я не помню, что делала и где была, а потом вышла к речке.
Набережная была пустой. Речка совсем обмелела – где-то посередине бежал небольшой ручеек по камням и даже не журчал, а только чуть отсвечивал под фонарем. Я пошла вверх по набережной в ту сторону, где темнели горы. Потом набережная кончилась, а я все шла и шла, сначала вдоль реки, а потом по ответвившейся от нее дороге, пока в конце концов она не уткнулась в какую-то гигантскую постройку.

В свете луны здание было похоже на корабль, с которого ушли пассажиры. Во дворе под луной светились два заржавленных автомобильных кузова, пахло пылью и мочой. Наверху тянулись ряды темных окон, почти все стекла были выбиты. Я вошла внутрь, под ногой хрустнул щебень, и сразу отозвалось и заговорило эхо. Где-то наверху началась возня и хлопки – это я разбудила птиц, которые тут ночевали. Наверное, здесь еще есть и крысы, а может, и змеи. Уж ящериц-то точно нет.
Мне вдруг стало хорошо и спокойно. Я поняла, что пришла домой. Конечно, это смешно, когда тебя сначала почти изнасиловали, а потом ты ходишь неизвестно где, чтобы хоть как-то прийти в себя, забредаешь на окраину неизвестного тебе города, находишь среди ночи заброшенный корпус какого-то, непонятно какого, завода, и вдруг думаешь, что тебе хорошо и что ты дома. Вчера бы я такого не поняла. Но если такое произошло, что ты чувствуешь про дом и про то, что тебе хорошо, значит, это просто произошло, вот и все. На третьем этаже я пошла по длинному коридору, заглядывая в приотворенные двери, и когда увидела, как в одной из комнат сквозь окно блестит речка, вошла.
Я открыла окно и села на пыльный подоконник. В комнате валялся стул и стояла допотопная железная кровать с металлической сеткой. Речка была недалеко, ее можно было даже разглядеть, а лягушки квакали так, что за километр было слышно. Я легла на подоконник во весь рост, повернула голову к речке и стала смотреть на нее и ждать. Потому что должно же в конце концов что-то произойти. Потом я, кажется, заснула. Сначала я лежала на подоконнике, освещенном у моей головы светом из рукавицы, которую я положила рядом, и разглядывала речку. Потом стала думать, что надо позвонить маме в Москву, они там, наверное, с ног сбились, меня разыскивая – ведь я уже сутки не отвечаю на вызовы. Потом я стала думать о Шарманщике. А что если его вообще не существует? Но такого не могло быть, потому что я чувствовала, что он где-то рядом. Интересно, как он выглядит. Мы с ним, скорее всего, были любовниками или что-то в этом роде. То есть в той жизни, которую мы с ним забыли. Он ведь тоже ее забыл. Интересно, почему это мы с ним решили взять и забыть наши жизни? Причем не просто забыть, а так, чтобы найти друг друга заново и в новой истории. Что нас не устраивало в старой? В смысле, настолько не устраивало, что надо было все переиграть заново, вместо того чтобы просто расстаться? Там, наверное, было какое-нибудь страшное событие, которое мы решили вычеркнуть. Мне даже одно время хотелось сходить к гипнотизеру, чтобы он меня загипнотизировал, а я ему рассказала про все мое прошлое с Шарманщиком. Но потом я передумала. Не хочется, чтобы в душе копались всякие придурки. Я, вообще, от них порядком устала. Конечно, без них нельзя, но я устала. Меня от них тошнит. Просто наизнанку выворачивает. Вот Лука не придурок, Лука встречается с королевой Мэб. А Шарманщика он все равно не помнит. Потом я заснула.
Белые колокольчики
Ночью я проснулась, потому что мне показалось, что я что-то расслышала. Сначала я подумала, что слышу свой собственный голос во сне, словно я там громко говорила и потом от этого проснулась, но когда я села на подоконник и стала прислушиваться, я поняла, что проснулась не от того, что мне снилось, а совсем от другого. Я не знала, от чего именно, но чувствовала, что причина была. В комнате было темно, светились лунным блеском осколки битого стекла на полу и мерцал угол подоконника, где лежала рукавица. Я встала и прошлась, но на этот раз у меня ничего не хрустело под ногами, и вообще тишина была полная. Я обратила на это внимание не сразу, на тишину. Потому что со сна сразу не все замечаешь.
Тишина была такая, что я ничего не слышала. Ведь если, скажем, прижать пальцы к ушам, то все равно что-то можно услышать, какое-то гудение, внутренний шум, а тут я оказалось словно в вате. Я даже сначала решила, что оглохла. И мне стало страшно. Но потом я рассмеялась, потому что решила, что, может быть, я еще и не проснулась, а мне все это снится. Хотя, конечно, всегда чувствуешь, проснулся ты или нет. Когда просыпаешься по-настоящему, то на языке можно услышать ментоловый привкус лавровишни, а если тебе только кажется, что ты проснулся, а на самом деле ты спишь, то про язык ты не вспоминаешь вообще. Мне ни в одном сне не снился мой собственный язык, и никому другому он не снился.
Потому что есть вещи, которые не снятся. Их не много, но и не мало. Есть слова, которые не могут присниться, как бы вам этого ни хотелось. Словом, есть острова во сне, куда воды сновидения подняться не могут. Однажды я даже хотела написать письмо одному человеку, состоящее из слов, которые не снятся, но тогда у меня еще не было их словаря. Я начала составлять его позже, но так и не закончила. Например, вам никогда не сможете присниться вы сами, как вы есть на самом деле, потому что там, где вы есть на самом деле, нет сна. Вам по той же причине никогда не может присниться ангельский язык, но вы можете ясно услышать его перевод, сделанный вашим подсознанием. То же самое и с языком бабочек, деревьев или ящериц. Никогда и никому не снилось ушко иголки. Это я точно выяснила. Есть еще несколько вещей, которые, скорее всего, никому и никогда не снились. Дно океана. Луна. (И это очень странно.) Кукла. (Тоже странно.) Катушка ниток. Император Монтесума. Бинокль Цейса. Никому не снились Антонен Арто, а также писатель Набоков. Отсюда я делаю вывод, что есть люди, которые не могут войти в сновидение, а есть и такие, которые не могут из него выйти и поэтому снятся постоянно. Но сейчас я думала не о снах, а просто вспомнила, что если я почувствовала вкус лавровишни на языке, то, значит, я проснулась на самом деле.
Я хлопнула в ладоши, но звука не было, как будто кто отключил громкость в телевизоре. Я проделала это еще раз, но с прежним эффектом. Впрочем, кое-что я все же слышала. Сначала мне казалось, что тишина была гладкой, как стекло без единой трещинки, но потом я стала различать словно бы ветер, который шуршит в кустарнике. Я обрадовалась и решила, что слух ко мне возвращается, но через минуту ветер в кустарнике пропал. Я стояла посреди комнаты в мутном лунном свете, идущем от окна, и прислушивалась. Я закрыла глаза и попыталась представить этот самый завод во всю длину, со всеми его десятками, а может быть, и сотнями пустых комнат. Как они все сейчас одновременно пустуют – каждая по отдельности и все вместе, и по этой стороне здания в них во всех стоит этот мутный лунный свет, похожий на стрекозиное крыло, – во всех вместе и в каждой в отдельности. Я увидела его лабиринт, как он пересекается и расширяется в тишине, переходя с этажа на этаж, от лестницы к лестнице. Я видела, как везде полы и подоконники покрыты пылью, как на некоторых полах валяются ватники, заляпанные несмываемой краской, плоские и холодные, видны окаменевшие окурки и старая обувь; как весь огромный дом застыл словно пароход в лунном свете.
Потом я услышала тоненький голосок. Он мог принадлежать девочке лет десяти, но дело было не в этом. И даже не в том, откуда она здесь могла взяться. Дело было в самой песенке. Она пела без слов, но в ее голосе звучала радость и одновременно грусть, восторг и отчаяние, тревожный вопрос и сладкое умиротворение, похожее на то, когда ребенок вот-вот заснет и устраивается поудобнее. Все это звучало в голосе одновременно. Там были и другие чувства и оттенки, например восхищение, как это бывает, когда любуешься закатом солнца, или благоговение, когда встречаешься с огромной горой, увенчанной сияющей шапкой снега, и бескрайним небом над ней, и еще в голоске невидимой девочки слышался рев водопада и свист дракона, плач младенца и контральто певицы, стон мужчины во время оргазма и крик его подруги, шуршание листьев по осеннему парку и флейта музыканта. Теперь этот голосок уже нельзя было назвать тоненьким, хотя и так его тоже можно было назвать.
Я шла по коридору и заглядывала во все двери подряд, потому что я очень хотела найти ту, кто умеет так петь, если, конечно, это можно назвать пением, но ее нигде не было. Иногда мне казалось, что я ее вижу, и тогда белесая темнота в комнате, куда я заглядывала, начинала сгущаться, пульсировать, словно собираясь в кокон величиной с маленькую девочку, но потом к пению прибавлялся еще один звук, например удары скачущих копыт, и тогда кокон, брезжа золотистым светом, медленно таял. Но, прежде чем растаять, свет уже почти сгущался в фигурку девочки лет двенадцати, и можно было различить ее платьице, и кудрявую головку, и даже полуоткрытый в пении рот, хотя было ясно, что поет она не ртом, а всем своим телом. Что звук исходит из каждой клеточки ее свечения – из волос, из плеч, платья, ног. Скорее можно было представить, что это звуки образуют фигуру, а не фигура излучает их. Словно бы эти звуки, придя неизвестно откуда, решили здесь встретиться. Но встретиться просто так никому не удается.
Я имею в виду, чтобы произошла встреча, нужна ведь какая-то зацепка, ну например чтобы кто-то сказал: место встречи – метро «Маяковская», центр зала, или возле памятника Пушкину, или – мое тело. Место встречи – мое тело. Так говорят редко, хотя думают часто, но я все же такое слышала один раз, когда так сказали вслух. Я сама скажу вслух такое, чтобы меня услышал Шарманщик, если он так и не сумеет назначить мне место свидания. Я тогда скажу: вот я, вот наше место встречи. Я скажу, что этому меня научила светящаяся фигурка девочки, похожая на колокольчик или ангела. Потому что до того, как стать, она успела сказать своим собственным тихим голосом, который всегда есть у любого человека еще до его рождения: вот я. Встречайтесь. Все вещи и люди, которые хоть когда-нибудь были в мире, все животные и все голоса – видимые и невидимые. А поскольку она сказала это не какому-то определенному человеку и даже не нескольким людям, двоим или троим, а всему на свете, то все эти голоса и пришли на место встречи, которое она обозначила самой собой. Ей, наверное, было жутко и больно, пока они приходили поодиночке, потому что среди них были, конечно, и голоса демонов, и крики самоубийц, и погибающих женщин, и животных, но когда она выждала, вытерпела их приход, обливаясь слезами ужаса и сострадания, тогда они все соединились не в страшную и темную яму, полную отчаянных стонов и воплей, а в небеса ангелов и белых колокольчиков. А сама она стала как ангелы или белые колокольчики, о которых философ Владимир Соловьев писал в одном из последних своих стихотворений, что они пришли с неба, хотя и растут здесь, и никогда не уходят без того, чтобы не помочь.