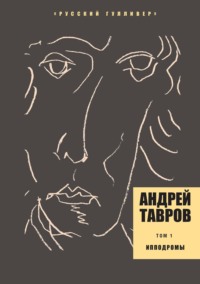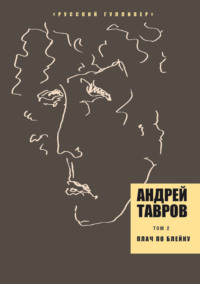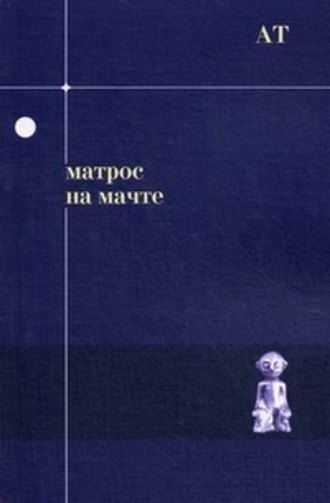
Полная версия
Матрос на мачте

Не знаю, помнишь ли ты сейчас, что через пару дней я провожал вас с подружкой на вокзал и, когда на перроне по-отечески поцеловал сначала ее, а потом тебя, ты, в отличие от нее, подставила не щеку, а рот и задержала свои губы на моих, и я не мог этого не заметить, и, возвращаясь домой в метро, время от времени ощущал привкус твоего влажного faberlic-тепла, которое осталось на моих губах.
А помнишь ли ты сейчас, что, когда мы с тобой встретились, из твоей груди раз в месяц текло молоко, которым ты кормила эльфов?
Ангел
Арсения пришла все в том же невидимом никому, кроме него, прозрачном целлофане, от которого после его исчезновения в воздухе остался только легкий хруст, а остальное растворилось без следа. Сначала в домофоне раздался ее голос, потом было слышно, как загудел лифт, и Шарманщик открыл дверь на площадку, не дожидаясь, пока зазвонит звонок. Она вошла, похрустывая воздухом вокруг себя, высокая, смуглая. Шарманщик опять отметил, что у его гостьи полные губы. Он не любил узких губ, потому что боялся их. Он вообще побаивался женщин, и особенно тех, у которых узкие губы, и особенно молодых. Когда ему было пять лет, бабушка сказала ему, смеясь, что узкие губы – значит злая тетя, а полные, как у мамы, – значит добрая. Он понимал, что это чепуха, однако со смеющейся сорок лет назад бабушкой совладать не мог. Может быть, потому что продолжал ее любить.
Он провел гостью на кухню и стал накрывать на стол.
– Давайте, я помогу.
– Конечно, – сказал он, – конечно.
Теперь она живет в Москве и, наверное, будет заходить к нему время от времени. Почему бы ей и не помочь ему накрыть на стол?
– Как на новом месте? – спросил он.
– Хорошие преподаватели, – сказала она. – Лучше, чем у нас.
– Гнесинка держит планку…
– Знаете, дело, кажется, во мне. Видите ли, скорее всего, Москва – мой город. Когда я сюда приезжаю, я начинаю слышать музыку уже с вокзала.
– Это как? – спросил Шарманщик машинально, аккуратно отвинчивая пробку у бутылки с вишневым соком.
– Она вот здесь, – и Арсения прижала расправленные ладони к подмышкам.
– Можно послушать? – спросил Шарманщик.
– Да, – сказала она. Она так и стояла с плоскими ладошками выставленными из подмышек вперед.
Он подошел, сел на стул рядом, потом приложил ухо к ее груди, отметив, что, слава Богу, она не носит, как все, топа, который обнажает живот. Сначала он ничего там не услышал и решил, что ему мешает зрение. Он прикрыл глаза и прижался плотнее. Какой-то шум, конечно же, был под ухом, но ведь это мог быть шум от того, что он слишком сильно прижался, или еще это мог быть шум от пульса его собственной крови, или от того, что его голова все время шевелилась, и от этого могла шуметь материя ее кофточки.
Через некоторое время он услышал лязганье, похожее на то, когда к составу подгоняют тепловоз, потому что провода, на которых ходит электровоз, здесь почему-то кончились, как например, в Вышнем Волочке, и теперь, после сильного лязганья буферов, спереди пойдет уже другая тяга. Потом на некоторое время настала тишина. Шарманщик уже хотел встать, но в этот миг ему показалось, что далеко, где-то за поездом, метрах в сорока, запела птица. Он даже узнал, какая именно. Серый дрозд. Он попытался его увидеть с закрытыми глазами, но у него это не получилось. Тогда он решил представить человека на перроне, который идет, ну скажем, смазывать или подвинчивать что-то под вагоном, или чем они там еще занимаются. Человек проявился лучше и почти сразу. В руках у него был фонарь, который раскачивался из детства Шарманщика, когда на тайной станции ночью говорил, ни к кому не обращаясь, гулкий репродуктор и раскачивался фонарь обходчика под вагоном, и от этого под полом вагона ходили тени. Еще пахло цветущей липой, но он тогда еще не знал, откуда был этот сказочный запах. А женский голос с эхом продолжал говорить пустым перронам и загадочным застанционным далям с блестящими рельсами и желтыми и зелеными огоньками, чтобы мастер второго депо зашел в диспетчерскую.

– Серый дрозд, – сказал Шарманщик. – Июнь.
– Слушайте дальше.
Теперь он различил совсем другие звуки. «Не надо, – сказал женский голос. – Ангел, мой, не надо». Шарманщик попробовал снова увидеть, кто там говорит, но на этот раз у него не получилось. Он решил, что событие – из прошлого. Сегодня никакая женщина, даже самых утонченных традиций и воспитания, не скажет своему мужчине «ангел мой». Она даже «любовь моя» сегодня не скажет. И Шарманщик задумался, а как же сегодня женщина говорит слова нежности мужчине, но вспомнить не смог, как ни пытался. Тогда он попробовал вспомнить, как его называла жена, а потом Надя, но снова не вспомнил. Жена, впрочем, называла его одно время каким-то смешным словом, но он уже успел забыть, каким именно, а в общем, он почувствовал себя сейчас совсем безымянным. Поэтому он попытался вспомнит имя своего Бога и не смог. Тогда он сказал про себя, что знает, по крайней мере, как зовут его самого, его зовут Шарманщик. Это было уже кое-что. Был Шарманщик и тот, кого кто-то назвал «мой ангел». А раз это произошло, то теперь можно жить дальше, и он почувствовал, что эти два имени раскачиваются вокруг него, как два фонаря над перроном – один сзади, а второй перед ним. Он отвел голову и снова прижал ухо к груди. Теперь он услышал, как бьется ее сердце, и почувствовал ее грудь на своей щеке. Он вслушивался, потому что пока он вспоминал имя своего Бога, мелькнул и скрылся, словно край сарафана летом, отрывок чудесной мелодии, легкой, неделимой и движущейся сразу в две стороны – по времени вперед и по времени назад, но это была одна и та же мелодия, и, хотя она двигалась в разные стороны, на самом деле было ясно, что это одна сторона. Там, внутри этой мелодии, была какая-то идея, а вернее говоря, какое-то звучание, а точнее, даже не звучание, а что-то вроде шуршания ежика под луной, но не ежика вообще, а того самого ежика, ну ты понимаешь, одного, а не другого, у которого от этого золотые говорящие глаза, и не говори, что от него пахнет мышами.
– А от него и не пахнет мышами.
– Конечно, не пахнет, – сказал Шарманщик, залезая по уши в волшебную разнонаправленную музыку, которая теперь вилась как дым из кирпичной трубы, восходя к светло-зеленым звездам, а те от этого не делались ни ближе, ни дальше, а просто жили для себя, Шарманщика и всех остальных, и это было самое главное их дело, которого, они, впрочем, не замечали. А музыка была похожа на Моцарта, но только если бы он не играл ее при помощи оркестра, а просто подошел бы к тебе, посмотрел в глаза, и вся она тогда сразу бы и прозвучала. Однако при этом она одновременно тянулась бы все дольше и дольше, все медленней и медленней, пока не остановилась бы и не стала переливаться в другом направлении, обратно. А потом загремела цепь и залаяла собака. «Ты не уходи пока, пожалуйста», – попросил Шарманщик музыку, и Арсения сказала, что она не уйдет. «Я хочу услышать, как набирается из-под крана цинковое ведро», – пояснил Шарманщик, а вокруг лежит снег, которому от роду десять минут. Потом он услышал, как лязгнула ручка ведра у барака напротив, а потом вышел толстяк такой ангел – белый, плюшевый как дед мороз и заладил какую-то ахинею: бу-бу-бу да бу-бу-бу. Снег все шел и шел, и Шарманщик, прижавшись к ее смуглой коже ухом, слышал, как он тихо падает у Арсении в животе.
Приют
Следующий листок Арсения нашла на чердаке у Луки. Для этого ей пришлось уехать из Петербурга и доехать до самого Адлера, потому что накануне она получила эсэмэску, посланную с анонимного компьютера, в которой был обозначен адрес горного курорта. Она и сама не знала, почему она поехала. Просто собралась и поехала, вот и все. С ней такое, к неудовольствию родителей, уже бывало. Правда нечасто.
Поезд шел больше суток, в купе было душно, и в громкоговорители крутилась бесконечная попса. Но вот, приехали.
Посреди Адлера величаво, как фрейлина посреди зала, стояла торжественная весна в серых дроздах, светлой листве и белых барашках моря. Утром, когда она вышла из поезда, было еще холодно, но она не удержалась и уговорила Луку, который ее встречал (она позвонила ему перед отъездом по номеру, означенному в той же эсэмэске), и они прошли прямо на пляж, к морю. Она не видела моря несколько лет и теперь разулась и вошла в воду.
Вода была холодной, и ногам было больно и щекотно от гальки. Пахло йодом и свежестью. Жирная чайка лениво парила на одном месте, раскормленная как крыса. Время от времени ее сносило вбок, и тогда она, капризно шевельнув крыльями, возвращалась на прежнее место. А то место, откуда она ушла, пустовало лишь миг, потом его заполняла другая чайка, такая же раскормленная, но невидимая, потому что была из воздуха.

Сейчас Арсения повернется и уйдет с кромки прибоя, и нишу, образовавшуюся от того, что она вынула себя из этого шуршащего места и перенесла в другое, осыпающееся, тоже заполнит фигура – другая Арсения, не менее, а может быть, и более прекрасная от того, что ее никому не видно и у нее нет костей, которые когда-нибудь станут старыми, а потом сгниют и распадутся под землей, и нет волос, которые тоже выцветут, и нет глаз, обреченных в конце концов потускнеть и высохнуть. Но в том дело, что та Арсения, которая неподвластна этому процессу, не из пустого места появилась, а возникла из той Арсении, которая уязвима временем и тлением, а значит, без тленной Арсении нетленная существовать не смогла бы. Больше того, именно тленная Арсения родила из себя ту, вторую, нетленную, а значит, та вторая каким-то, пока что неведомым образом жила в первой, и не она одна жила, а сколько угодно. Золотые дукаты и цехины воздушного нетления, непорочное сияние вечных мест и уст, сгущенный свет и мед бриллиантового светоносного лона, бога Зевса и деву Леду – вот что носила в себе сейчас Арсения, закинувшая сумку через плечо, шагая вместе с милиционером Лукой к автовокзалу и остановке автобуса под обшарпанным рыжим кипарисом, чтобы вечером оказаться в домике в горах и разыскать очередной рассказ о себе и Шарманщике.

И она его нашла.
Действительно, на чердаке у Луки стоял телескоп на треноге, нацеленный в небо, а в дальнем углу среди коробок из-под пива и спирта Royal валялся футляр от главной трубы. Внутри был листок бумаги и маленькая кассета из тех, которые обычно заряжают в автоответчик телефона. Там же было и маленькое зеркальце с металлической ручкой. Когда Арсения посмотрела в него, она увидела свой затылок. И сколько бы она ни крутила его в руках и ни наводила под разным углом, в нем все равно отражался в различных ракурсах лишь ее затылок – темно-русые мелко вьющиеся пряди с черепашьим бабкиным гребнем. Как работало устройство, она не смогла понять и решила спросить у Луки, но, когда он взобрался на чердак, она спросила его не об этом, а о другом.
– Кто положил сюда этот листок? – спросила она.
– Не знаю, – сказал Лука. – Первый раз его вижу.
– У вас есть знакомый в Москве? – спросила она.
– Конечно, – признал Лука. – У меня в Москве есть много знакомых. Про какого ты спрашиваешь?
– Его Шарманщик зовут.
Лука только сопел.
– Вот это его почерк? – она протянула ему записи Шарманщика.
– Не знаю, – сказал Лука, вглядываясь в листки, выдранные из школьной тетрадки в клеточку.
– А он про вас знает. Знает, что вы на свидание с ангелом ходили. Или с бабочкой.
– Многим рассказывал, никто не верит. Больше не рассказываю. Ты откуда знаешь?
– Прочла.
Этот листок, где написано, как Лука ходит в горы, чтобы встречаться с королевой бабочек, Мэб, Арсения нашла по счету третьим. Он лежал в огромном альбоме Леонардо у нее дома.
– Ну хорошо. Так мне можно у вас пожить два-три дня?
– Живи. Пойдем, покажу твою комнату.
И вот что было в листках. Там было не про него и Арсению. И не про Арсению. Про другую женщину – мать Шарманщика.
Самое страшное было – уходить. Она стояла и смотрела мне вослед своими детскими голубыми глазами. В этом больничном наряде – чистой, но чужой какой-нибудь кофте, совершенно нелепой, ни с чем не сравнимой, с нелепой короткой стрижкой, в плотной, негнущейся и тоже чужой юбке. Главное было не оглянуться на пороге железной двери, которую потом за ним зачем-то запирали, главное было вот это. Но Шарманщик каждый раз шел к двери по длинному коридору мимо телевизора, стоящего у окна в фойе, и сидящих перед ним на стульях и диванах в чехлах чудовищных сумасшедших теток, почти все седых, шел, их всех жалея, сдав ее на руки медсестре или одной из ее полусумасшедших подружек, которых, впрочем, мать никогда не узнавала, но они ее отличали, – шел, чуя ее присутствие за спиной, заплетаясь взором по обоям и дверям палат, шел под неслышную музыку, состоящую из каких-то воплей испугавшейся малолетней дурочки со слюнявым ртом, нехорошего своего дыхания, мяуканья невидимых кошек, процарапывающих ему душу до дна, шел, чтобы мелким орфеем с неизбежностью кошмарного сновидения прямо в дверях все-таки обернуться и – увидеть, как она стоит там, посреди коридора под электрической лампой, и смотрит ему вослед, губы ее шевелятся, а глаза светятся как бледно-синие лужицы. И нечесаная подружка с нелепым волевым лицом поддерживает ее за локоть и тоже смотрит… Теперь надо было выдохнуть, спуститься с лестницы, пройти мимо толстого и седоусого вахтера, сидящего за телефоном, и выйти на асфальт с сосновым бором, прямо впритык к подъезду. На подъезде надпись – «Психоневрологический интернат». Миновать асфальтовую тропку, ведущую к воротам, сами ворота, свернуть направо к газовым трубам, испещренным матерщиной и цветными граффити, тянущимся поверх земли, мимо трансформаторной будки или там котельной и лишь тогда разрешить плечам вволю трястись, а слезам – катиться.
И сколько он ни зарекался, не оглянуться не выходило. И если возраст Евридики, которую в великих операх мира и на всех его континентах Орфей регулярно терял перед самым выходом к свету, так почти и не расслышав ее голоса, если ее возраст и не был нигде обозначен, то мать с каждым визитом Шарманщика и с каждой его прощальной оглядкой молодела и хорошела. Не теряя старческой ауры, в морщинах и с незаживающей раной на носу – следом не очень удачной операции с применением жидкого азота, не теряя этого облака прежней жизни, а вернее, этого скрутившегося осеннего ее листа, облика – жалкого, старческого, растерянного каждой чертой, кроме, пожалуй, голубых внимательных глаз, в которых плавало синее небо, – так вот, не теряя этого выцветающего призрачного одеяния итоговой жизни, в которой она была старухой, примерно такой, как и все остальные дожившие до восьмидесяти с лишним лет, – не утратив этого облика до конца, она просвечивала сквозь второстепенную свою оболочку новой, почти нестерпимой красотой, схожей по контрастной своей невозможности лишь с лунными русалками Гоголя. И чтобы окончательно не спятить, Шарманщик гнал от себя этот бледно сияющий, как огонь на солнечном свете, почти прозрачный образ, пытаясь сосредоточиться на более привычном, хотя и нестерпимо жалком ее обличье, ведущем к спазмам, соплям и реву. Но чем больше он пытался сосредоточиться на ее морщинах, живом мясе на крыле носа, на рте без потерянных в больничных лабиринтах верхних вставных зубов, чем больше он фокусировался на ее нелепой девичьей прическе (густы были волосы, обкорнаны, прекрасны), чем больше он объяснял ей, что его зовут совсем не так, как звали его отчима и ее мужа, который об эту пору давно уже помер и чьим именем она его упрямо называла, – тем вернее эти старческие и маразматические приметы ускользали от него. И тем сильнее сияла ее несравненная, цветущая красота, превышающая даже ту, которую он видел на фотографиях матери, где затвор запечатлел ее в окружении академиков, лауреатов Сталинских премий, профессоров и космонавтов, ибо красота эта (ставшая причиной ее главной беды – или он это сам придумал?) долго не хотела ее покидать. И вот теперь она расцветала страшным превышающим старость и смерть цветом. Он видел чуткую девочку восемнадцати лет с глазами цвета васильков во ржи, с белоснежной и хрупкой шеей, никогда не хотящей поникнуть, и легкой походкой, разбивающей чашками колен колокол юбки, влачившей вдоль неутомимых ног бледные отрепья влажного света.
Он не был уверен, не был, что она всегда не понимает, кто она такая, как ее зовут и где она оказалась. Ведь она могла понимать это в какие-то другие минуты, например тогда, когда его не было рядом. Хорошо, что он ничего не знает об этом, а может только догадываться и сомневаться, сильно надеясь при этом, что это все-таки не так.
Рисковый человек
Шарманщик думал про Брейгеля, про его Вавилонскую башню. А что если это ад, вывернутый к небу? Потому что если ад у Данте – воронка с разными причудливыми персонажами, начиная с тех, кто ничего не совершил в жизни из-за своей малости и нерешительности, и заканчивая тем местом, где в Коцит вмерз Сатана, то там же есть такая точка, где все переворачивается. Она расположена на голове как раз Сатаны, прямо посреди его косматой головы или где-то на другом косматом месте. Он не мог точно вспомнить, где это место, но это было неважно, а важно было то, что Вергилий и Данте, достигнув этого места на теле Сатаны, чтобы двигаться дальше, теперь переворачиваются вверх ногами, а если они это делают, то в этой точке и ад должен тоже, может, явно, а может, и не очень явно, а по большей части невидимо перевертываться, выворачиваться наизнанку и вверх ногами. А вот место, где это выворачивание видно, надо еще поискать. «Хотя, конечно, с этим лучше не связываться без надобности», – подумал Шарманщик, но рассуждения все же продолжил.

Раз мы что-то представили, оно существует. Вот только где и когда? Но вот Брейгель понял, что вывернутый ад вполне может обозначить свою гигантскую воронку вверх ногами где-нибудь на земле. (Код к этой задачке он оставил, если внимательно вглядеться в изображение, заложив его в форму облака слева от вершины башни, и форма эта воспроизводит как раз воронку «правильного» ада, от которой отталкивается земная, а вернее, надземная башня). И если первый ад был полым, то вывернутый должен быть тяжелым и заполненным. И если там, под землей, наверху были никчемные люди и ангелы, не способные ни на добро, ни на зло, такие все сплошь чеховские персонажи, а внизу ― вмерзший в лед Сатана, то в Вавилонской башне никчемные будут в самом низу, рядом с морем, пристанью и кораблями, там, где плоскость башни распространяется по земле и ее городам, упертым в эту землю и эту плоскость, а Сатана на самой ее вершине – там, где начинается небо с облаками.
«Так-так, – заволновался Шарманщик, – и что же тут получается такое, что из этого следует в таком случае?» А следовало из этого вот что. Из этого следовало, что большинство людей – никчемные, раз они находятся вровень с низом башни. И города их – лишние и чеховские. И плоды рук их ни к чему не приводят, и могут они что-то делать или могут ничего не делать – это все равно, потому что ничего в действительном мире они сделать не в состоянии. И именно из них-то и состоит в основном весь народ земли. А выше всех на такой земле (а что, разве есть какая другая?) находятся предатели – те царят прямо рядом с Сатаной, под облаками. И если в аду обыкновенном он их пожирает, то в вывернутом ласкает и наделяет всяческой властью, вызывающей зависть у тех, кто ниже. А кто ниже – насильники, убийцы, дающие в рост, то есть продающие деньги по Марксу, все банки, весь большой бизнес – начиная от российского газа и нефти и кончая израильским оружием, потому что ныне все это идет через банки и деньги, хочешь ни хочешь, становятся товаром, а значит, все дающие в рост – компания очень современная и многочисленная, и отсюда выходит, что не только венецианский Шейлок виноват, потому что брал в рост, покушаясь на кусок живого мяса прямо из твоего тела, а и современные евреи и гоим виноваты не меньше. Потому что они не только покушаются, но уже и отрывают. От земли и от людей поочередно.
А если зайти с другой стороны, снизу, то там будут парить над землей на высоте примерно десятиэтажного дома Паоло и Франческа, нарушившие запрет недозволенной любви. И Шарманщик порадовался, что хотя тут и есть много тонкостей с этим вывороченным миром и иерархией греховности, но все же, если отложить их на время в сторону то ясно видно, что убитые некогда за свое чувство любовники здесь парят, окрыленные своей преступной любовью, выше земли и выше голов других, не столь преступных, но зато и невлюбленных. И конечно же, парят они не только выше земли, но и – расширяясь от башни, уходя от нее на любое желательное расстояние, потому что раз это вы-воротка, то все, что в невывороченном, обыкновенном, аду помещалось внутри, здесь должно разместиться снаружи. Причем граница этого размещения, там где вывороченный мир соприкасается с нашим, обыкновенным, должна пульсировать и искрить. Пульсирует она туда и сюда примерно так, как большие качели, или даже медленнее и прозрачнее, как, скажем, океанские приливы и отливы. И там, где край вывороченного мира встречается с невывороченным, должны случаться загадочные вещи – рождаться гении, пропадать люди и города, время идти назад, зачатие делаться непорочным и царить чистая вероятность и бессмертие. В этих местах существует бесконечное количество вариантов для любой жизни и судьбы, причем сразу и одновременно. И тот, кто стоит на этой границе, очень легко – интуитивно он чует это – может выбрать любой из них прямо сразу и без всяких хлопот или обычных трудных усилий. И ангел прошептал Шарманщику в этот момент, а как это случилось, Шарманщик так и не понял, прошептал, что некоторые выбрали деньги, некоторые – поход на Россию и право на свою собственную Французскую империю, некоторые (люди невероятной внутренней силы) – Тайную Вечерю в Милане или театр «Глобус» в Лондоне, но никто не выбрал – любви и счастья. «И знаешь почему? – прошептал, изогнувшись с неба, ангел в ухо Шарманщику. – Потому что несчастье – ваше сокровище. И вы сплошь выбираете его».

И Шарманщик как-то сразу поверил ангелу. Потому что однажды, когда его сбил грузовик и он упал с велосипеда и разбился насмерть, душа его чуть не улетела на небо навсегда, но вот такой же точно или даже этот же самый ангел присел на втулку вращающегося колеса, опрокинутого в кювет, и позвал его далеко ушедшую душу. И душа Шарманщика сдернулась с неба, вернулась обратно. С тех пор он уважал ангелов и верил в них.
И еще Брейгель понял, что, находясь теперь на вершине башни под облаками, Коцит размерзся, и там, где он находился, на самом верху Башни, забил источник. Имя ему Майя, Иллюзия или Цитата. Воды его сбегают с боковин башни бесшумными и прозрачными каскадами ярусов и пилонов, и потом распространяются по всей земле как прозрачное стекло, проницаемое для людей, кораблей, ласточек и травы. И когда их потоки достигают людей и их душ, то люди перестают жить своей собственной глубокой жизнью, которая рождается в собственных их душах и в собственном источнике живой и ни на кого другого не похожей жизни, и начинают жить не там, а на своей поверхности, совершив выворотку вослед башне. Теперь они живут не своей жизнью и умирают не своей смертью, а – подражая. Сначала богатому соседскому мальчику, потом успешному юристу, или психологу, или президенту, или неважно кому. Богатой проститутке или бедному поэту (что почти вывелось. Имею в виду подражание поэту). Или благородным убийцам, заполонившим телеэкраны, или стерве, которая гордится тем, что стерва не кто-то там вдалеке, а именно она сама – стерва. Или даже еще кому-то, еще не очень конкретному, но кого можно цитировать точно так же, как одна из башен-близнецов цитировала другую, пока обе не сгорели и не развалились. Люди боятся собственной уникальности. Они стремятся не создать свою жизнь изнутри, а повторить снаружи, процитировать то, что было сказано до них. А сказано было до них, что мир зол, что всем вечно всего не хватает и никогда не хватит. Что в поту и труде. Что в скорбях. Что ты умрешь. Что другой тебе враг. Что богатый прав. Что счастья не бывает. Что мы не боги, а черви. Блажен обокравший. Убей, а то проиграешь. Не будь дураком, солги. Посылай на хер. Подставляй что надо кому надо. Забей на подробности – возьми прайс. Сотвори бизнес. Пройди кастинг. Соверши шопинг. И отъебись от нас, ради Бога, отъебись поскорее.
И сколько бы Иисус, например, или другие пророки ни утверждали обратного, их слова цитируются, но в расчет не берутся. Потому что Цитата позволяет себя использовать так, чтобы сильнее вогнать тебя в землю праха. Это и есть ее настоящая цель. Но даже земля праха – иллюзия.