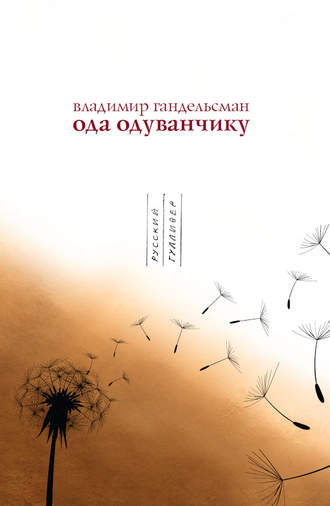
Полная версия
Ода одуванчику
«Мать исчезла совершенно…»
Мать исчезла совершенно.Умирает даже тот,кто не думал совершенно,что когда-нибудь умрёт.Он рукой перебираетодеяла смертный край,так дитя перебираетклавиши из края в край.Человека на границахпредставляют два слепых:одного лицо в зарницахузнаваний голубых,по лицу другого тенипробегают темноты.Два слепых друг друга встретяти на ощупь скажут: ты.Он един теперь навеки,потому что жизнь сошласьнасмерть в этом человеке,целиком себя лишась.Воскрешение матери
Надень пальто. Надень шарф.Тебя продует. Закрой шкаф.Когда придёшь. Когда придёшь.Обещали дождь. Дождь.Купи на обратном путихлеб. Хлеб. Вставай, уже без пяти.Я что-то вкусненькое принесла.Дотянем до второго числа.Это на праздник. Зачем открыл.Господи, что опять натворил.Пошёл прочь. Пошёл прочь.Мы с папочкой не спали всю ночь.Как бегут дни. Дни. Застегниверхнюю пуговицу. Онитолкают тебя на неверный путь.Надо постричься. Грудьвся нараспашку. Можно сойти с ума.Что у нас – закрома?Будь человеком. НЗ. БУ.Не горбись. ЧП. ЦУ.Надо в одно местечко.Повесь на плечики.Мне не нравится, какты кашляешь. Ляг. Ляг. Ляг.Не говори при нём.Уже без пяти. Подъём. Подъём.Стоило покупать рояль. Рояль.Закаляйся как сталь.Он меня вгонит в гроб. Гроб.Дай-ка потрогать лоб. Лоб.Не кури. Не губилёгкие. Не груби.Не простудись. Ночью выпалснег. Я же вижу – ты выпил.Я же вижу – ты выпил. Сознайся. Тыостаёшься один. Поливай цветы.«Хочешь, всё переберу…»
Хочешь, всё переберу,вечером начну – закончув рифму: стало быть, к утру.Утончу, где надо тонче.Муфта лисья и каракуль,в ботах хлюпает вода,мало видел, много плакал,всё запомнил навсегда.Заходи за мной пораньше,никогда не умирай.Не умрёшь? Не умирай же.Нежных слов не умеряй.Я термометр под мышкойбуду искренне держать,под малиновою вспышкойто дышать, то не дышать.Человек оттуда родом,где пчелиным лечат мёдом,прижигают ранку йодом,где на плечиках печаль,а по праздникам хрусталь.Что ты ищешь под комодом?Бьют куранты. С Новым годом.Жаль отца и маму жаль.Хочешь, размотаю узел,затянул – не развязать.Сколько помню, слова трусил,слова трусил не сказать.Фонарей золоторунныйвечер, путь по снегу санный,день продлённый, мир подлунный,лов подлёдный, осиянный.Ленка Зыкова. Каток.Дрожь укутана в платок.Помнишь, девочкой на взморье,только-только после кори,ты острижена под нольи стыдишься? Помнишь боль?А потом приходят гости.Вишни, яблони, хурма,винограда грузны гроздья,нет ни зависти, ни злости,жизнь не в долг, а задарма.После месяцев болезниты спускаешься к гостям —что на свете бесполезнейсчастья, узнанного там?Чай с ореховым вареньем.За прозрачной скорлупойсо своим стихотвореньемкто-то тычется слепой.Это, может быть, предвестьенашей встречи зимним днём.Человек бывает вместе.Всё приму, а если двестиграмм – приму и в виде местисмерть, задуманную в нём.Наступает утро. Утро —хочешь в рифму? – это мудро,потому что можно лечьи забыть родную речь.Тема
Друг великолепий погод,ранних бронетранспортёров в снегу,рой под эту землю подкоп,дай на солнце выплясать сапогу.Зиждься, мальчик розовый,мальчик огненный,воздух примири с разовойголовой, в него вогнанной.То стучат стучьмя комья вбок,самозакаляясь железа гудит грань,солоно сквозь кожу идёт сок,скоро-скоро уже зарычит брань:Мне оторвало голову,она летит ядром,вон летит, мордя, —о, чудный палиндром! Пуля в сердце дождя, в сердце голого. Дождь на землю пал — из земли в обратный путь задышал. Мне оторвало голову, она лежит в грязи, в грязь влипая, мстит. О, липкие стези! О, мстихи, о, мутит, о, бесполого. Мылься, мысль, петлёй, вошью вышейся или тлейся тлёй:Я ножом истычу шею твою, как баклажан,то отскакивая в жабью присядку, тос оборотами балеруна протыкая вновьи опять кроша твою, падаль, плоть.Я втопчу лицо твоё, падаль, в грязьи взобью два глаза: желтки зрачков и белки,а расхрусты челюстей под каблукомотзовутся радостью в моём животе:Руки, вырванные с мясомшерстикрылым богом Марсом,руки по полю пошли, руки, вырванные с мясом шестирылым богом Марсом, потрясают кулаками: не шали! Ноги ходят каблуками, сухожилия клоками трепыхаются в пыли, ноги месят каблуками пищеводы с языками, во в евстахиевы трубы вбито «Пли!».Развяжитесь, лимфатические узлы,провисай, гирлянда толстой кишки,нерв блуждающий, блуждай, до золыпрогорайте, рваной плоти мешки.Друг высокопарных ночей,росчерков метеоритных, спрошуя о стороне: ты на чьей? —и одним плевком звезду погашу.Эмигрантское
День окончен. Супермаркет,мёртвым светом залитой.Подворотня тьмою каркнет.Ключ блеснёт незолотой.То-то. Счастья не награбишь.Разве выпадет в лото.Это билдинг, это гарбидж,это, в сущности, ничто.Отопри свою квартиру.Прислонись душой к стене.Ты не нужен больше миру.Рыбка плавает на дне.Превращенье фрукта в овощ.Середина ноября.Кто-нибудь, приди на помощь,дай нюхнуть нашатыря.По тропинке проторённой —раз, два, три, четыре, пять —тихий, малоодарённыйчеловек уходит спать.То ль Кармен какую режутв эти поздние часы,то ль, ворьё почуяв, брешутприпаркованные псы.Край оборванный конверта.Край, не обжитый тобой,с завезённой из Пуэрто-Рико музыкой тупой.Спи, поэт, ты сам несносен.Убаюкивай свой страх.Это билдингская осеньв тёмно-бронксовых лесах.Это птичка «фифти-фифти»поутру поёт одна.Это поднятая в лифтенежилая желтизна.Рванью полиэтиленабес кружит по мостовой.Жизнь конечна. Смерть нетленна.Воздух дрожи мозговой.Партитура Бронкса
Выдвиньте меня в луч солнечныйдети разбрелись по свету сволочидай-ка на газету мелочиразвелось в районе чёрной нечистиноют как перед дождём конечностичто здесь хорошо свобода личностинет я вам скажу товарищичто она такие варит щицвет хороший но немного старящийон икру поставит чтоб могла жеватькаждый будет сам себе налаживатья прямая не умею сглаживатькак ни встречу все наружу прелестив пятницу смотрю пропали челюститихие деревья в тихом шелестетихие деревья среди сволочив щах луч золотится солнечныйразвелось в районе чёрной мелочинет я вам скажу от нечистия прямая разбрелись конечностицвет хороший но немного личностион икру поставит чтоб товарищикак перед дождём такие варит щикак ни встречу все наружу старящийдети разбрелись но чтоб могла жеватьдай-ка на газету сам налаживатьчто здесь хорошо умею сглаживатьвыдвиньте меня наружу прелестикаждый будет сам пропали челюститихие деревья в тихом шелесте«В полях инстинкта, искренних, как щит…»
В полях инстинкта, искренних, как щит ползущей черепахи, тот, что сценами троянских битв расшит, не щит, так свод, землетрясеньем стиснутый, иль вид исходных вод, в полях секундных, заячьих, среди не разума и не любви, но жизни жаб, раздувшихся в груди, травы в крови расклёванной добычи впереди, — живи, живи. Часторастущий, тыщий, трущий глаз прохожему осенний лес — вот клёкот на его сквозной каркас летит с небес, вот некий профиль в нем полудивясь- полуисчез. Небесносенний, сенный, острый дух, сыреющий, стоит в краях, где розовый олень, являя слух, в котором страх с величьем, предпочтёт одно из двух, и значит – взмах исчезновенья, как бы за экран, сомкнувшийся за ним, и в нём вся будущая кровь смертельных ран горит огнём, когда, горизонтально выгнув стан, он станет сном. Темнеет. Натянув на темя плед, прощальный выпростает луч, как пятку, солнце, и погаснет след в развалах туч. Рождай богов, сознание, им свет ссужай, не мучь себя, ты без богов не можешь – лги, их щедро снарядив. Потом, всесильные, вернут тебе долги в тельце литом. Трактуй змею, в шнуре её ни зги. Или Содом. Сознание, твой раб теперь богат, с прогулки возвратясь и дар последний обретя, пусть дом объят (ужель пожар?)сплошь пламенем, все умерли подряд, и сам он стар.Баллада по уходу
Шёл, шёл дождь, я приехал на их,я приехал на улицу их, наих,всё друг друга оплакивало в огневых.Мне открыла старая в парике,отраженьем беглым, рике, рике,мы по пояс в зеркале, как в реке.Муж в халате полураспахнутом,то глазами хлопнет, то ахнет ртом,прахом пахнет, мочой, ведром.Трое замерли мы, по стенам часы шуршат.Сколько времени! – вот чего нас лишат:золотушной армии тикающих мышат.Сел в качалку полуоткрытый рот,и парик отправился в спальный грот.Тело к старости провоняет, потом умрёт.О бессмысленности пой песню, пой,я сиделка на ночь твоя, тупой,делка, аноч, воя, упой.То обхватит голову, то ковырнёт в ноздре,пахом прахнет, мочой в ведре,из дыры ты вывалился, здыры ты опять в дыре.Свесив уши пыльные, телефон молчит,пересохший шнур за собой влачит,на углу стола таракан торчит.На портретах предки так выцвели, что ужене по разу умерли, но по два уже,из одной в другую смерть перешли уже.Пой тоскливую песню, пой, а потом срединадевай-ка ночи носок и себя рядив человеческое. Куда ты, старик? сиди.Он в подтяжках путается, в штанинах брюк,он в поход собрался. Старик, zur ck!Он забыл английский: немец, тебе каюк.Schlecht, мой пекарь бывший, ты спёкся сам.Для бардачных подвигов и внебрачных дамне годишься, ухарь, не по годам.Он ещё платочек повяжет на шею, новдруг замрёт, устанет, и станет ему темно,тянет, тянет, утягивает на дно.Шёл, шёл дождь, я приехал к ним,чтоб присматривать, ним, ним, ним,за одним из них, аноним.Жизнь, в её завершении, хочет так,чтобы я, свидетель и ей не враг,ахнул – дескать, абсурд и мрак!Что ж, подыгрываю, пой песню, пой,но уж раз напрашивается такойвывод – делать его на кой?Leben, Бог не задумал тебя тобой.Одиночество в покипси
Какой-нибудь невзрачный бар.Бильярдная. Гоняют шар.Один из варваров в мишеньшвыряет дротик. Зимний день.По стенам хвойные венки.На сердце тоненькой тоскидрожит предпраздничный ледок.Глоток вина. Ещё глоток.Те двое, – в сущности, сырьёдля человечества, – сейчасзаплатят каждый за своёи выйдут, в шкуры облачась.Звезда хоккея порет чушьпо телевизору. Он мужи посвящает гол семье.Его фамилия Лемье.Тебя? Конечно не виню.Куда он смотрит? Впрочем, пустьвсё, что начертано в меню,заучивает наизусть.В раскопах будущей братвынайдут залапанный предмет:Евангелие от Жратвы —гурманских рукописей бред.И если расставаться, товрагами, чтобы не жалеть.Чтоб жалости не знать! Пальто!Калоши! Зонтик! Умереть!Мария Магдалина
Вот она идёт – вся выпуклая,крашеная, а сама прямая,груди высоко несёт, как выпекла, инехотя так, искоса глядит, и пряная.Всё её захочет, даже изгородь,или столб фонарный, мы подросткамиза деревьями стоймя стоим, на исповедьпригодится похоть с мокрыми отростками.Платье к бёдрам липнет – что ни шаг её.Шепелявая старуха, шаркая,из дому напротив выйдет, шавкоювзбеленится, «сука, – шамкнет, – сука жаркая!».Много я не видел, но десятка двавидел, под её порою окнаминочью прячась, я рыдал от сладкогошёпота их, стона, счастья потного.Вот чего не помню – осуждения.Только взрослый в зависти обрушитсяна другого, потому что где не я,думает, там мерзость обнаружится.В ней любовь была. Но как-то странникуговорит: «Пойдём. Чем здесь ворочаться —лучше дома. Я люблю тебя. А раненькопоутру уйдёшь, хоть не захочется».Я не понял слов его: мол, опытуне дано любовь узнать – дано проточномувоздуху, а ты, мол, в землю вкопанане любовью – жалостью к непрочному.А потом она исчезла. Господи,да и мы на все четыре стороныразбрелись, на все четыре стороны,и ни исповеди, ни любви, ни жалости.Диптих
1Две руки, как две реки,так ребёнка обнимают,словно бы в него впадают.Очертания легки.Лишь склонённость головынад припухлостью младенца —розовеет остров тельцав складках тёмной синевы.В детских ручках виноград,миг себя сиюминутней,два фруктовых среза – лютнизолотистых ангелят.Утро раннее двоихфлорентийское находит,виноград ещё не бродитуксусом у губ Твоих.Живописец, ты мне друг?Не отнимешь винограда? —и со дна всплывает взглядаиспытующий испуг.2Тук-тук-тук, молоток-молоточек,чья-то белая держит платок,кровь из трёх кровоточащих точекразмотает Его, как моток,тук-тук-тук входит нехотя в мякоть,в брус зато хорошо, с вкуснотой,всё увидеть, что есть, и оплакатьпод восставшей Его высотой,чей-то профиль горит в капюшоне,под ребром, чуть колеблясь, копьёзастывает в заколотом стоне,и чернеет на бёдрах тряпьё,жизнь уходит, в себя удаляясь,и, вертясь, как в воронке, за нейисчезает, вином утоляясь,многоротое счастье людей,только что ещё конская гриваразвевалась, на солнце блестя,а теперь и она некрасива,праздник кончен, тоскует дитя.Распятие
Что ещё так может длиться,ни на чём держась, держаться?Тела кровная теплица,я хотел тебя дождаться,чтоб теперь, когда усталоты и мышцею не двинуть,мне безмерных сил досталосамого себя покинуть.Дерево
Как дерево, стоящее поодаль,как в неподвижном дереве укортебе (твоя отвязанность – свобода ль?)читается (не слишком ли ты скор?),как почерк, что, летя во весь опор,встал на дыбы, возницей остановлен,на вдохе, в закипании кровей,на поле битвы-графики ветвей,как сеть, когда, казалось бы, отловлен,но выпущен на волю ветер (вей!),как дерево, как будто это снимокизвилин Бога, дерево, во всёммолчащем потрясении своём,как замысел, который насмерть вымок,промок, пропах землёй, как птичий домсо взрывом стаи глаз, как разореньепростора, с наведённым на негостволом, как изумительное зренье,как первый и последний день творенья,когда не надо больше ничего.«Тридцать первого утром…»
Тридцать первого утромв комнате паркетадекабря проснуться всем нутроми увидеть, как сверкает ярко таёлочная, увидетьсквозь ещё полумрак теней,о, пижаму фланелевую надеть,подоконник растенийс тянущимся сквозь побелкурамы сквозняком зимы,радоваться позже взбитому белку,звуку с кухни, запаху невыразимо,гарь побелки между рам пою,невысокую арену света,и волной бегущей голубоюпустоту преобладанья снега,я газетой пальцы обернуног от холода в коньках,иней матовости достоверный,острые порезы лезвий тонких,о, полуденные дня длинноты,ноты, ноты, воробьи,реостат воздушной темноты,позолоты на ветвях междуусобье,канители, серебристого дождя,серпантинные спирали,птиц бумажные на ёлке тождествагрусти в будущей дали,этой оптики выпадиз реального в точкузасмотреться и с головы до пятулетучиться дурачку,лучше этого исчезновеньяв комнате декабря —только возвращенья из сегодня дня,из сегодня-распри —после жизни толчеис совестью или виной овечьей —к запаху погасших ночьюбенгальских свечей,только возвращенья, лучше ихмедленности ничего нет,тридцать первого проснуться, в шейныхпозвонках гирлянды капли света.Вещь в двух частях
1Обступим вещь как инобытие.Кто ты, недышащая?Твоё темьё,твоё темьё, меня колышущее.Шумел-камышащее. Я не пил.Всё истинное – незаконно.А ты, мой падающий, где ты был,снижающийся заоконно?Где? В Падуе? В Капелле дельАрена?Во сне Иоакима синеве льты шёл смиренно?Себя не знает вещь самаи ждёт, когда ябы выскочил весь из ума,бывыскочил, в себе светаябыстрее, чем темнеет тьма.2Шарфа примененье нежноеозаряет мне мозги.Город мой, зима кромешная,не видать в окне ни зги.Выйдем, шарф, укутай горло ирот мой дышащий прикрой. —Пламя воздуха прогорклоес обмороженной коройстанет синевой надречною,дальним отблеском строки,в город высвободив встречнуюсмелость шарфа и руки.«Я вотру декабрьский воздух в кожу…»
Я вотру декабрьский воздух в кожу,приучая зрение к сараю,и с подбоем розовым калошув мраморном сугробе потеряю.Всё короче дни, всё ночи дольше,неба край над фабрикой неровный;хочешь, я сейчас взволнуюсь больше,чем всегда, осознанней, верховней?Заслезит глаза гружённый светомбокс больничный и в мозгу застрянет,мамочкину шляпку сдует ветром,и она летящей шляпкой станет,выйду к леденеющему скатуи в ночи увижу дальнозоркой:медсестра пюре несёт в палатуи треску с поджаристою коркой,сладковато-бледный вкус компотас грушей, виноградом, черносливом,если хочешь, – слабость, бисер потаполднем неопрятным и сонливым,голубиный гул, вороний окрик,глухо за окном идёт газета;если хочешь, спи, смотри на коврикс городом, где кончится всё это.Художник
Анатолию Заславскому
1C Колокольной трамвай накренитсяк преступившему контуры дому.Всё в наклоне вещей коренится,в проницательной тяге к разлому.Там прозрачные люди плащамиполыхнут над асфальтовой лужей,и, сомкнувшись у них за плечами,воздух станет всей улицей уже,и прикурит в привычном продрогечеловек, на мгновенье пригодныйдар свободы от всех психологийвоспринять как художник свободный.2Кто сказал, что мир настоящий?Да, темнело-светало,но лишь неправильностью цветущейможно поправить дело.Видел я, как вращается шина,видел дом кирпичный,их уродство было бы совершенно,если бы не мой взгляд невзрачный.Я стою на краю тротуарав декабрьском дне года,слыша песню другого хора —кривизною звука она богата.Нет в ней чувств-умилений,есть окурок, солнце, маляр в извёстке,в драматичной плоскости линийсухожилия-связки.Воскресение
Это горестноедерево древесное,как крестнаявесть весною.Небо небесное,цветка цветение,пусть настигнет ясноетебя видение.Пусть ползёт в дневнойгусеница жаре,в дремоте древней,в горячей гари,в кокон сухойупрячет тело —и ни слуха ни духа.Пусть снаружи светлотак, чтоб не очнутьсябыло нельзя, —бабочка пророчится,двуглаза.1991–2000 гг.Запасные книжки
Часть первая: чередования
***У Ходасевича: «…мне хочется сойти с ума…» – эти слова равны большинству жизненных ситуаций. Простота и максимальность выражения. Как у Пастернака: «Снег идёт, снег идёт…»
***Почему что-то запоминается? Я слышу, например, несколько нелепых фраз из детства, совершенно незначительных. Почему запали именно эти клавиши? Помню мальчика Юру, восклицающего по поводу чьей-то реплики: «Вот сморозил!», – и учительницу, усиленно хвалящую его за неожиданное и точное слово…
Почему бывают мгновения, которые, кажется, запомнятся надолго, и почему нельзя при этом сказать близкому человеку: смотри, эта голая комната так освещена, эта железная сетка кровати, эта бутылка, которую мы только что распили в честь новоселья, эта сетка, эта бутылка, мы с тобой (я на подоконнике, в пальто, ты в углу), яркая и безумная лампочка на скрученном шнуре, – так расположены, что мы запомним… Нельзя. Из боязни спугнуть ангела гармонии и отохотить его навсегда от своей памяти.
***Чем отличается роман от малой формы? – автором: вступая в единоборство с тем, что его явно превосходит, он вынужден менять свою жизнь.
***Когда переходишь трамвайные пути, чувствуешь, как мгновение назад тебя переехал трамвай.
***Выступление делегатов съезда. Очевидно определяющее значение речи.
Речь (в чистом виде) – звук, колебания которого затухают во времени. Речь последующего реально забивает речь предыдущего, одерживая физическую победу. И ничего не происходит.
***Неподалёку девушка с кофе. За её столиком, спиной ко мне, пара – он и она то и дело удобно ссутуливаются над чашечками. Смотрю на девушку – она обводит зал пустоватым взглядом: то ли равнодушно ждёт кого-то, то ли ей просто скучно…
Её соседи вскоре ушли, оставив на тарелке несколько скомканных бумажек и пирожное-трубочку. Девушка в очередной раз обвела зал своим бледным взором и спокойно переложила пирожное к себе в тарелку. И задумалась.
Подошла уборщица, стала протирать её столик тряпкой…
Я отвлёкся, посмотрел в окно и поймал себя на том, что мгновение назад похолодел, подглядев эту сцену. Не от страха за девушку (ведь она могла встретиться глазами со мной и смутиться), не потому, что её действие было незаконно… Скорее, открылся нерв общей тоскливости этого дня, скользившего незаметно, ровно, бесцветно, как небо между голыми деревьями садика за окном. Особенно тоскливо, потому что окно ещё и мутновато отгораживало острый осенний воздух. И вдруг бесконечному однообразию потребовалось выражение, та запредельная нота, которая прервала бы незаметный ход дня и провалила бы его в недогоняемую, бездонную пропасть с головокружением и тошнотой. Не хотелось ни настигать, ни продлевать этот холодок. Поэтому я вновь взглянул на девушку, её задумчивость исчезла вслед за уборщицей, и она с тем же спокойствием, с каким только что «объявила» тоску этого дня, доедала пирожное-трубочку.
***У каждого города свои подмышки.
***У Фолкнера – чёрная гармония (вроде чёрного юмора). Его упорство по достижению этой гармонии чуть ли не тупое. В том смысле, в каком может быть тупой последовательная мощь, верящая в себя, как в Бога.
***Физиология объективна. В боли нельзя усомниться. Раз болит – болит, и нет вопроса, верят ли тебе. Физиология прозы, стиха – это то, что прожито животом, то, по чему идёт читатель, как собака по следу. В этих «физиологических» точках произведение смыкается с физиологией как таковой. Толчки мысли «Толстоевского» ощутимы. Вероятно, чем больше скручен страданием и болью автор и чем яснее он может их видеть, как бы последним усилием воли откачнувшись от них, – тем с большей внятностью он проталкивается сквозь тебя. (Известное: «Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать!» Достоевский – Мережковскому.) У Чехова другой физиологический атлас, более доступный или приемлемый, как раз потому, что менее настырный. Вот в «Почте» он описывает студента после ночной осенней езды в тарантасе, на рассвете: «…Студент сонно и хмуро поглядел на завешанные окна усадьбы, мимо которых проезжала тройка. За окнами, подумал он, вероятно, спят люди самым крепким, утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона; а если и разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернётся на другой бок, улыбнётся от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щёку, заснёт ещё крепче. Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде…» Не случайно мысль проникает за стены усадьбы, а затем «вскрывает» и пруд – то же проявление физиологической основы (недаром и Чехов – врач).
Это и свобода. Перо поспевает за воображением и доверяет ему. Доверчивость – следствие той самой, объективной для автора, «боли». Вот ещё несколько точек чеховского атласа:
«И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шёлк».
«В руке, которую поцеловала Кисочка, было ощущение тоски» («Огни»).
«…И теперь ещё, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шёлка и кружев – и больше ничего…» («Супруга»).
«…И ногу, которую он поцеловал, она поджала под себя, как птица <…> и ей даже казалось, что она нетвёрдо ступает на ту ногу, которую он поцеловал» («Три года»). «Но ничего не было так страшно для Якова, как варёный картофель в крови, на который он боялся наступить…» («Убийство»).
Это нервные узлы произведений. Это природа автора, т. е. то, что нельзя придумать, подобно восклицанию Ивана Дмитрича из «Палаты № 6»: «Радуюсь!» Вполне «достоевское» восклицание – напрорыв из самого нутра.
***Поэт Я. выглядел так, словно коллеги, здороваясь с ним, на протяжении многих лет пожимали ему лицо.
***Говорит депутат: «Приходится много тратить времени, в том числе личного…»
***Есть жизнь, текущая лишь в снах. Через год, два, три – вдруг снится сон, продолжающий другой сон. Эти люди, эти вещи, эти ситуации есть только там. Удивительно. Проснувшись, ты вспоминаешь, что уже видел этого человека, и – со странным чувством: тоже во сне.
***Говорит соседка:
«Племени в касрульке…»
«Я стирала шлага, стирала на пижнаке твоём шлага… А она как было, как и есть…»
«Сотрясение мазок…»
***У Фолкнера – не напряжение жизни, а напряжение чувственных точек (расположенных уникально, как и у всех прочих), которыми он воспринимает действительность. Но использование всех точек не дало бы напряжения. Фолкнер интуитивно отбирает лишь самые физиологические, самые отстоящие от нормальной жизни (благодаря чему – «разность потенциалов»).
Вообще, жизнь во всей полноте – лишена напряжения. Следует вырвать романом из неё кусок, чтобы её увидеть (конечно, уже искажённую), точнее – увидеть способ видения Фолкнера, расположение его извилин. Отстояние точек от нормальной жизни делает тем более привлекательным возврат к ней. В момент какого-нибудь страстного описания сказать, что «цвели глицинии» и т. д. Это раскачивание огромного маятника.





