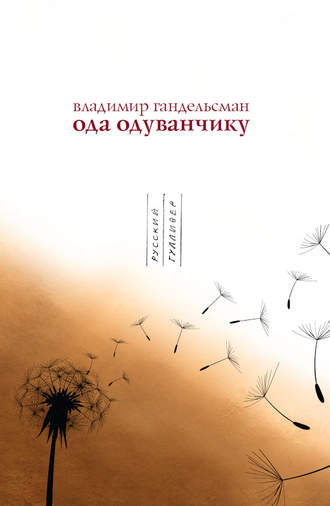
Полная версия
Ода одуванчику
Из цикла «шум земли»
«Потому что я смертен…»
Потому что я смертен. И в здравом уме.И колеблются души во тьме, и число их несметно.Потому что мой разум прекращается разом.Что насытит его, тем что скажет, что я не бездушен,если сам он пребудет разрушен, —эти капли дождя, светоносные соты?это солнце, с востока на запад летяи сгорая бессонно?Что мне скажет, что дождь – это дождь,если мозг разбежится как дрожь?Так беспамятствует, расщеплено, слово, бывшее Словом,называя небесным уловом то, о чём полупомнит оно.Для младенческих уст этот куст. Для младенческих глаз.До того, как пришёл Иисус. До того, как Он спас.Есть Земля до названья Земли, вне названья,где меня на меня извели, и меня на зияньеизведут. Есть младенческий труд называнья впервые.Кто их создал, куда их ведут, кто такие?Усомнившись в себе, поднося свои руки к глазам,я смотрю на того, кто я сам:пальцы имеют длину, в основании пальцев – по валуну,ногти, на каждом – страна восходящего солнца,в венах блуждает голубизна.Как мне видеть меня после смерти меня,даже если душа вознесётся?Этой ночью – не позже.Беспризорные мраки, в окно натолпившись, крутя занавеску, пугаяшуршаньем, бумагу задевая, овеют дыханьем дитя.Дитя шевельнёт губами.Красный мяч лакированный – вот он круглит на полу.А супруги, разлипшись, лежат не в пылу, и пиджак обнимает вуглу спинку стула, и масляет вилка на столе, и слетают к столубеспризорные звуки и мраки, и растут деревянные драки веток вкомнате, словно в саду.А бутылка вина – столкновенье светящихся влаг и вертящихся сфер,и подруга пьяна, и слегка этот ветер ей благ – для объятий твоих,например. Покосится страна и запаянный в ней интерьер.Вот вам умное счастье безумных, опьянение юных и вдох для достаниядна.Одинокая женщина спит-полуспит. Если дом разобрать, то подушкависит чуть пониже трубы заводской, чуть повыше канавы. Станетхолодно пуху в подушке. Спит гражданка уснувшей державы, коченеяв клубочке, как сушка.Ты пейзаж этот лучше закрой.Ночь дерева, каторжника своих корней, дарит черномастных коней,разбегающихся по тротуару.Ночь реки, шарящей в темноте батарей, загоняет под мост отарузолоторунных огней.Ночь киоска, в котором желтеет душа киоскёра.Ночь головного убора на голове манекена.Ночь всего, что мгновенно.Проживём эту ночь, как живут те, кто нищи. Разве это не точныйприют – пепелище? Что трагедия, если б не шут, тарабанящий в днище?Вот почему ты рвёшься за предмет, пусть он одушевлён, – чтобнищенствовать.Там, где пройден он, к нему уже привязанности нет.Две смерти пережив – его и в нём свою, – не возвращай земного ликатого, кто побеждён, как Эвридика. Для оборотней мёртв его объём.Лишь ты владеешь им, когда насквозь его прошёл, твои края не те, гденищенствуют вместе или врозь, – но нищенствуют в полной нищете.Здесь расстаются, нервы на разрыв испытывают, ненависть вменив вобязанность себе для простоты, здесь женщина кричит из пустоты летвпереди.Печальнейший мотив.А более печального не жди.Старушечьи руки, и рюмочка из хрусталя, и несколько капельпустырника, и опасенье, что жизнь оборвётся вот-вот, но ещё, веселя,по капле даётся, и вкусно сосётся печенье. И крылышки моли изшкапа летят, нафталя.В большую глубину уходит кит, чернильной каплей в толщу океанаопущена душа левиафана, полночная душа его не спит.Он с общим содержаньем столь же слит, сколь форма его в миреодинока, и, огибая континент с востока, – уходит, как чутьё ему велит.И высится в море терпенье скалы, осаждённой таким неслыханным ветром морским, что слышится ангелов пенье.И разум упорствует, противоборствуя тьме. Но тотчас, из хаосавыхвачен самосознаньем, он хочет бежать бытия и вернуться к зиянью,подобному небу, когда оно ближе к зиме.Бедняжливый узник в своей одиночной тюрьме страстей, он расхищенна страхи, любовь, покаянье, и нет ему выбора – только принятьумиранье всего, что он слышит, принять его в ясном уме.«Я верил в бога Ра…»
Я верил в бога Ра,я богоравным был,пока в ладье я плыл,пока сиял он дивно,пока я неотрывновесь день за ним следил.Я был ребёнком, мирмой бог мне даровал,я жил, я ликовал,и в той песчаной почвемой мёртвый предок порчи,спелёнутый, не знал.И вдруг мой бог погас,и стала жизнь темна,и, не нащупав дна,я побежал, безумясь,в пески, где, как Анубис,лежала ночь одна.Там верховодил лев,там царствовал орёл,там друга я нашёлземной надёжней тверди,он спас меня от смертии сам её обрёл.И вот с лица Землимогучий друг исчез,я землю рыл, я лезза ним в земные недра,но не нашёл, как ветра,его ни там ни здесь.И я пошёл бродить,и я бродяжил век,и увидал ночлег —то некто шел из Ура,был препоясан шкуройовечьей человек.И я пристал к нему,и пас его стада,и в поздний час, когдастада и травы никнут,я трижды был окликнут:«Ты слышишь голос?» – «Да».И духом я окреп,и жертвенник возжёг,и агнца я рассёк,звезде падучей вторя,и предо мною моремне расстелил мой Бог.«Так посещает жизнь, когда ступня снимает…»
Так посещает жизнь, когда ступня снимаетпесчаный слепок дна,так посещает жизнь, как кровь перемещаетвовне, и, солона,волну теснит волна, как складки влажной тушилилового и мощного слона,распластанного заживо на суше,и в долгий слух душа погружена,так посещает жизнь, как посещает речьнемого, – не отвлечься, не отвлечь,и глаз не отвести от посещенья,и если ей предписано истечь —из сети жил уйти по истеченьедыхания, – сверкнув, как камбала,пробитая охотником, на пеклотащимая – сверкнула и поблекла, —то чьей руки не только не избегла,но дважды удостоена быластоль данная и отнятая жизнь.Я Сущий есмь – вот тварь Твоя дрожит.«Ляжем, дверь приоткроем…»
Ляжем, дверь приоткроем,свет идёт по косой,веет горем, покоеми песчаной косой,это жизнь своим зовомобращается к нам,вея сонным Азовомс Сивашом пополам,ты запомни, как дологэтот мыслящий миг,что проник к нам за пологи протяжно приник.«Проснувшись от страха, я слышал: он вывел меня…»
Проснувшись от страха, я слышал: он вывел меняиз ряда предметов, уравненных зимней луною,ещё затихала иного волна бытия,как будто в песке, несравненно омытом волною,ещё возбегали в ту область её мураши,нетрезвые пузы, зыри, не успевшие смыться,и запечатлелась озёрная светлость души,пока на окраинах доцокотали копытца,причиною страха был ангел, припомненный изангины и игл, бенгальским осыпанных златом,и если продолжить, то чудные звуки неслись,и створки горели, просвечены тонко гранатом,и, женщина, ты —из белого тела была ты составлена так,как песня того, кто тебя бесконечно утратил,тот лирик велик был и мной завоёванных благон более стоил, поэтому их и утратил,он был вожаком, протрубившим начало поры,когда с водопоем едины становятся звери,и в джунглях у Ганга топочут слоны как миры,и тени миров преломившись ложатся на двери,и фермер Флориды следит, как порхающий прахмонарха, чьи крылья очерчены дельтой двойною,своим атлантическим рейсом связует мой страхс его стороною,и запах был тот, что потом к этой жизни вернёт,явившись случайно, явившись почти что некстати,и свет, что так ярок, и страх, что внезапно берёт,впервые горят над купаньем грудного дитяти.1979–1981 гг.«Назови взволнованностью земли…»
Валерию Черешне
Назови взволнованностью земликараваном идущие по горизонту горы,тем же, тем же покоем дышать вдалиот себя, темнеющий шаг нескорый,восходящий к небу и нисходящий шаг,книгочей, оторвавшийся от страницы,так взволнован, но и спокоен так,ни приблизиться не умея, ни отстраниться,освещённое осени сумерек вещество,царь, не знающий кто он, в своем убранстве,так в игре водящий – мгновение – никого,обернувшись, не ищет в пустом пространстве.«Чудной жизни стволы…»
Чудной жизни стволы,чудной жизни извилистойне увидишь, сгорев до золы,зелень, зелень сквози листвы,лягушачий твой пульстонкой ветвью височноюзамедляясь в согласных – «ветвлюсь» —говорит и, высь точнуюв гласных бегло явив,нотной тенью пятнистоюпо земле пробегает, приливсвета в запись втянись мою,без остатка втянись,чтоб не знали о пролитомдне ушедшие намертво вниз,чтоб не ведали боли там,равной тленья крупицтяге – смерти перечащей —тяге: зыблемый воздух границзреньем вспять пересечь ещё.«О, вечереет, чернеет, звереет река…»
О, вечереет, чернеет, звереет река,рвёт свои когти отсюда, болят берега,осень за горло берёт и сжимает рука,пуст гардероб, ни единого в нём номерка.О, вечереет, сыреет платформа, соритурнами праха, короткие смерчи творит,курит кассир, с пассажиркою поздней острит,улица имя теряет, становится стрит.Я на другом полушарии шарю, ищаценты, в обширных, как скука, провалах плаща,эта страна мне не в пору, с другого плеча,впрочем, без разницы, если сказать сгоряча.Разве, поверхность почище, но тот же подбой,та же истерика поезда, я не слепой,лучше не быть совершенно, чем быть не с тобой.Жизнь – это крах философии. Самой. Любой.То ли в окне, как в прорехе осеннего дня,дремлет старик, прохудившийся корпус креня,то ли ребёнка замучила скрипкой родня,то ли захлопнулась дверь и не стало меня.«Я возьму светящийся той зимы квадрат…»
Я возьму светящийся той зимы квадрат(вроде фосфорного осколкав чёрной комнате, где ночует ёлка),непомерных для нашей зарплаты трат,я возьму в слабеющей лампе бедный быт(меж паркетинами иголка),дольше нашего – только чувство долга,Богом, радуйся горю, ты не забыт.Близко, близко поднесу я к глазам окнос крестовиной, упавшей теньюна соседний дом, никогда забвеньюпоглотить этот жёлтый свет не дано.И лица твоего я увижу овал,руку с лёгкой в изгибе ленью,отстранившую книгу, – куда там чтенью,подниматься так рано, провал, провал.Крики пьяных двора или кирзовый скрип,торопящийся в свою роту,подберу в подворотне, подобной гроту,ледяное возьму я мерцанье глыб,со вчера заваренный я возьму рассветв кухне… стало быть, на работу…отоспимся, радость моя, в субботу,долго нет её, долго субботы нет.А когда полярная нас укроет ночьофицерской вполне шинелью,и когда потянется к рукодельюснег в кругах фонарей, и проснётся дочь,испугавшись за нас, – помнишь пламенный трудбыть младенцем? – то, канительюнад её крахмальной склонясь постелью,вдруг наступят праздники и всё спасут.«Я посвящу тебе лестниц волчки…»
Я посвящу тебе лестниц волчки,я посвечу тебе там,сдунуло рукопись ветром, клочкис древа летят по пятам,в лестницах, как в мясорубках, кружа,я посвящу тебе нитьтой паутины, с которой душалюбит паучья дружить,лестниц волчки, или власти тычки,крик обезьян за стеной,или оркестра косые смычкимарш зарядят проливной,гостя, за маршем берущего марш,я посещу ту страну,где размололи не хуже, чем фарш,слабую жизнь не одну,вешалок по коридору крючки,я посвечу тебе в нём,на два осколка разбившись, в зрачкинеба упавший объём,надо бумагу до дыр протереть,чтобы и лист, как листва,мог от избытка себя умереть,свет излучив существа.«Остановка над дымной Невой…»
Остановка над дымной Невой,замерзающей, дымной,чёрный холод зимы огневой —за пустые труды мне,хищно выгнут Елагин хребет,фонари его дыбом,за пустые труды этот бредв уши вышептан рыбам,за гранёный стакан на плавуресторана «Приморский»,за блатную его татарвув мерзкой слякоти мёрзкой,то ль нагар на сыром фитиле,то ли почва паскудна,то ли небо сидит на иглетретий век беспробудно,в порошок снеговой ли сотрутэтот город ледащийза пустой огнедышащий труд,в ту трубу вылетавший,или «нет» говори, или «да»,Инеадой вдоль древа,чёрной сваей за стёклами льда,вбитой в грудь мою слева.«Тому семнадцать, как хожу кругами…»
Тому семнадцать, как хожу кругамивокруг постов своих сторожевых,над реками, семнадцать берегамия лет хожу в пространствах нежилых,дыханием моим за стадиономотопленных, с футбольною землёй,раскомканной, под воздухом бездоннымвсё началось, кипящею смолойна дальних пустырях, с теней в бушлатах,с вагончиков отцепленных, томуназад семнадцать, с вечера поддатых,смурных и сократившихся до СМУс утра, когда, бредя с автостоянки,я согревался начатым в глухомуглу одной бытовки у жестянкис окурками спасительным стихом,продолженным в заснеженных колоннахЕлагина на шатком топчане,среди котлов, на угле раскалённых,волчат огня, в своей величинеразогнанных до высыпавшей стаишипенья на рождественском снегу,семнадцать, как губерния пустаяпошла и пишет через не могураскуренным стихом на финском фоне,над мёртвой рыбой с фосфором из глаз,в другой бытовке скуку на Гудзонеразвеявшим и конченным сейчас.«Ранним, ранним утром бредётся…»
Ранним, ранним утром бредётсято по снегу серому, то по лужам,где, жена, мы с тобою служим? —где придётся, помнится, где придётся,кто бы мог подумать, что обернётсяхудшее время жизни – лучшим.С разводным ключом идёшь, теплоцентраоператор ты или слесарь,блиннолицый, помнится, правит цезарь,и слова людей не янтарь и цедра;с пищевыми отходами я таскаю вёдра;память – как бы обратный цензор.Тени, тени зябкие мы недосыпа,февраля фиолетовые разводына домах, на небе, на лицах, сводыподворотни с лампочкой вроде всхлипа.Память с мощью царя Эдипавдруг прозреет из слепоты исхода.И тогда предметы, в неё толпоюхлынув – ёлки скелетик, осколок блюдца,рвань газеты, – в один сольютсясветовой поток – он казался тьмоютам, в соседстве с большой тюрьмою,с ложью в ней правдолюбца, —чтоб теперь нашлось ему примененье:залатать сквозящие дыры окондня рассеянного, который сотканиз пропущенных (не в ушко) мгновений,то, что есть, – по-видимому, и есть забвенье,только будущему раскрытый кокон.«Лучшее время – в потёмках…»
Лучшее время – в потёмкахутра, после ночнойсмены, окно в потёках,краткий уют ручной.Вот остановка мира,поршней его, цепей.Лучшее место – квартира.Крепкого чая попей.Мне никто не поможетжизнь свою превозмочь.Лучшее, что я видел, —это спящая дочь.Лучшее, что я слышал, —как сквозь сон говоришь:«Ты кочегаркой пахнешь…» —и наступает тишь.Цапля
Сама в себя продета, нить с иглой, сухая мысль аскета, щуплый слой,которым воздух бережно проложен, его страниц закладка клювом вкось, — она как шпиль порядка, или ось,или клинок, что выхвачен из ножен и воткнут в пруд, где рыбы, где вокруг чешуй златятся нимбы, где испуг круглее и безмолвнее мишени и где одна с особым взглядом вверх, остроугольнолобым, тише всех стоит, едва колеблясь, тише тени. Тогда, на старте медля, та стрела, впиваясь в воздух, в свет ли, два крыларасправив, – тяжело, определённо, и с лап роняя капли, — над прудом летит, – и в клюве цапли рыбьим ртом разинут мир, зияя изумлённо.«Я жил в чужих домах неприбранных…»
Вадиму Месяцу
Я жил в чужих домах неприбранных,где лучше было свет гасить,чем зажигать, и с этих выдранныхстраниц мне некому грозить.К тому же тех, что под обложкоюстраниц, – и не было почти.Ложился лунною дорожкоюсвет ночи, сбившийся с пути,свет ночи, пылью дома траченный,ложился на пол, а прикрывглаза, я видел негра в прачечной —он спал под блоковский мотив.Казалось, сон ему не нравится,а свет тем более не мил,и если то, с чем надо справиться,есть жизнь, то он не победил.Я шёл испанскими кварталами,где над верёвкой бельевойи человеками усталымимаячил мяч полуживой.И в окнах фабрики, как водится —полузаброшенной, закатискал себя, чтобы удвоиться,и уходил ни с чем назад.Всё было выбито, измаяно.Стояла Почта, дом без черт,где я, как верный пёс – хозяина,порой облизывал конверт.В тех городках, где жить не следует,где в жаркий полдень страховойагент при галстуке обедаетс сотрудницей нероковой,в тех городках, что лучше смотрятсяпроездом, бегло, как дневник,в который – любят в нём иль ссорятся —не важно, – ты не слишком вник, —чем становилось там дождливее,тем неуверенней я знал,что всё могло быть и счастливее.Но не было, как я сказал.Утренний мотив
На асфальте мечетсямышь, кыш, мышь,сторож это, сменщица,мусорщик, малыш,семенит цветочница,шарк, шурк, шарк,точность мира точнится,в арках аркнет арк,взрыв бенгальский сварщика,сверк, сварк, сверк,голубого росчеркамеркнуть медлит мерк,льётся, не артачитсясвят свет свит,тачка утра тачится,почтальон почтит,Чарли это брючится,блажь, мышь, блажь,ночь в чернилах учитсянебу тихих чаш,пусть проходят где-нибудь,клёш крыш клёш,душу учит небо ведьпростираться сплошь.1995–1997 гг.Стихи памяти отца
1Ночь. Туман невпродых.И – лицом к октябрю —надо прежде родныхисчезать, говорю.Речь, которая естьу людей, не берёт.В большей степени вестьо тебе – этот крот.Потому что он слеп.Слепок чёрных глазниц.В большей степени – степь.Холод. Ночь без границ.2Узкий, коричневый, на два замка саквояж,синие с белыми пуговицами кальсоны,город, запаянный в шар с глицерином, вояжв баню, суббота, зима и фонарь услезённый,за руку, фауна булочной сдобная: гусь,слон, бегемот, – по изюминке глаза на каждом,то и случилось, чего я смертельно боюсьтам, в простыне, с лимонадом в стакане бумажном,то и случилось, и тот, кто привыкнуть помогк жизни, в предбаннике шарф завязавший мне, – столь жек смерти поможет привыкнуть, я не одинок:страшно сказать, но одним собеседником больше.3Я шлю тебе вдогонку город Сновск,путей на стрелке быстрые разбеги,хвостом от оводов тяжеловозотмахивается, на телегешагаловский с мешком мужик-еврей,смесь русского с украинским и с идиш,мишугинер побачит тех курейи сопли разотрёт в слезах, подкидыш,весь местечковый, рыжий, жаркий раж,всю утварь роя, всё, чем мне казалсятот город, всю языческую блажь, —египетский ли плен в крови сказался,не знаю… Эту жизнь, которой нет,которая мне собственной телеснейбыла, на ту ли тьму, на тот ли светя шлю тебе мой голос бесполезный,как в Белгороде где-нибудь, схвативв охапку свёрток груш, с толпой мешаясь,под учащённый пульс-речитатив, —ты отстаёшь, в размерах уменьшаясь,и я иду к тебе, из темнотытебя вернув, из немощи, из страха,как блудный сын, с той разницей, что тыприжат к моей груди как короб праха.«Футбол на стадионе имени…»
Футбол на стадионе имениСергей Мироновича Кировавторого стриженого синегона стадионе мая миру мирпод небом бегло гофрированнымрядами полубоксы тыльныелевее ясно дышит море тамблистательно под корень спиленона стадионе мая здравствуетфлажки труду зато в бою легкоплакатом мимо государствуетбутылью с жигулёвским булькаютпарада ДОСААФ равнениемидут руками всё размашистейи вывернутым муравейникоммеж секторов сползанье в чашу телпотом замрёт и страшно высь течётнад стадионом С. М. Кироваудары пустоты стотысячнойвторого стриженого миру мирпо узеньким в часы песочныев застолье ускользают сумеркидо Дня Победы обесточеноизвилиной сверкнёт лишь ум реки«Из пустых коридоров мастики…»
Из пустых коридоров мастики,солнцерыжих паркета полос,из тик-така полудня, из тихих,тише дыбом встающих волос,сохлым запахом швабры простенной,труховой мешковиной ведра,с подоконника пьющих растенийвверх косея фрамуги дыра,перочисткой и слойкой в портфеле,Александров под партой ползётк Симакову, который неделичерез две от желтухи умрёт,безъязыкие громы изъятыгорячо, и в продутых ушахдве глухие затычки из ваты,и уроки труда на стежках,и на солнце прозрачные вещи,и пчела к георгину летит,в вакуолях пространства трепещет,слюдяное безмолвье слезит,то, что вижу, – не зрение видит,не к тому – из полуденных тоск —сам себя подбирает эпитети лучом своим ломится в мозг.«В георгина лепестки уставясь…»
В георгина лепестки уставясь,шёлк китайский на краю газона,слабоумия столбняк и завязь,выпадение из жизни звона,это вроде западанья клавиш,музыки обрыв, когда педальюзвук нажатый замирает, вкладышв книгу безуханного с печалью,дребезги стекла с перифериизрения бутылочного, трепетлески или марли малярия —бабочки внутри лимонный лепет,вдоль каникул нытиком скитайся,вдруг цветком забудься нежно-тускло,как воспоминанья шёлк китайскийузко ускользая, ольза, уско«По коридорам тянет зверем…»
По коридорам тянет зверем,древесной сыростью, опилками,и – недоверьем —дитя с височными прожилками,и с лестниц чёрныхидут какие-то с носилками —все в униформах.Провоет сиплая сирена,пожарная ли это, скорая,пуста арена,затылок паники за штороюмелькнёт, и ярусиз темноты сорвётся свороюлиствы на ярость.Он не хотел на представленье,оставь в покое неразумноедитя, колениего дрожат, и счастье шумноеразит рядами, —как он, его не выношу, но язачем-то с вами.Горят огни большого цирка,прижмётся к рукаву доверчиво —на ручках цыпки(я плачу) – мальчик гуттаперчевый…Скорей, в автобус,обратно всё это разверчивай,на мир не злобясь.Они не знали, что творили:канатоходцы ли под куполомпути торили,иль силачи с глазами глупымишвыряли гири,иль, оснежась, сверкали купамидеревья в мире.«Поднимайся над долгоиграющим…»
Поднимайся над долгоиграющим,над заезженным чёрным катком,помянуть и воспеть этот рай, ещёв детском горле застрявший комком,эти – нагрубо краской замазанныхламп сквозь ветви – павлиньи круги,в пору казней и праздников массовыхты родился для частной строки,о, тепло своё в варежки выдыши,чтоб из вечности глухонемойголос матери в форточку, вынувшийдушу, чистый услышать: «Домой!», —и над чаем с вареньем из блюдечкарайских яблок, уставясь в однуточку дрожи, склонись, чтобы будничныйвыпить ужас и впасть в тишину.«Тихим временем мать пролетает…»
Тихим временем мать пролетает,стала скаредна, просит: верни,наспех серые дыры латает,да не брал я, не трогал, ни-ни,вот я, сын твой, и здесь твои дщери,инженеры их полумужья,штукатурные трещины, щели,я ни вилки не брал, ни ножа,снится дверь, приоткрытая вором,то ли сонного слуха слои,то ли мать-воевода дозоромокликает владенья свои,штопка пяток, на локти заплатки,антресоли чулков барахла,в боевом с этажерки порядкеснятся строем слоны мал мала,ничего не разграблено, видишь,бьёт хрусталь инфернальная дрожь,пятясь за полночь из дому выйдешьи уходишь, пока не уйдёшь.«Птица копится и цельно…»
Птица копится и цельновдруг летит собой полнакрыльями членораздельночертит в на небе онаоблаков немые светниподнимающийся знойтело ясности соседнейпролетает надо мнойв нежном воздухе доверьяв голубом его цехув птицу слепленные перьядержат взгляд мой наверху«Это некто тычется там и мечется…»
Это некто тычется там и мечется,в раковину, где умывается, мочится,ищет курить, в серой пепельницепальцев следы оставляет, пялится, пятится,это кому-то хворается там и хнычется,ноют суставы, арбуза ночного хочется,ноги его замирают, нашарив тапочки,задники стоптаны, это сынок о папочке,это арбузы дают из зелёных клетей, поди,ядра, бухой бомбардир, в детском лепетежизни, дождя – ухо льнёт подносящегок хрусту, шуршит в освещении плащ его,это любовью к кому-нибудь имярек томим,всякое слово живое есть реквием,словно бы глубоководную рек таимтайну о смерти невидимой всплесками редкими,где твои дочери, к зеркалу дочередькончилась, смылись, вернулись брюхатые, ночи ведь,где твой сынок, от какой огрубевшие пяточкидевки уносит, это сынок о папочкепесню поёт, молитву поёт поминальную,эй, атаман, оттоманку полутораспальную,с ним на боку, хрипящим, потом завывшим,имя сынка перепутавшим с болью, забывшим.«И одна сестра говорит я сдохну…»
и одна сестра говорит я сдохнускорее чем кивая туда где матья смотри уже слепну глохнуи уходит её кормитьи другая кричит она тожечеловек подпоясывая халатхоть и кости одни да кожадоживи до её престарелых летдоживёшь тут первая сквозь шипеньеи подносит к старушечьему ртуложку вторая включает радиопеньеи ведёт по пыли трюмо чертучто кривишься боишься ли что отравимчто на тот боишься ли что отправимАнтигона стирает пыльесть прямые обязанности мне её жальговорит Исмена хоть нанимай сиделкутоже стоит немалых денегпричитая моет стоит тарелкуза границей вертится брат Полиникни письма от него ничего в поминеАнтигона кричит и приносит суднода-да-да да-да-да но о ком о сынемать их дакает будь неладнаиль о муже поди пойми тутто заплачет рукой махнёт отвяжитесьот Полиника пожелтелый свитокей одна читает другая выносит жидкостьАполлоном прочно же мы забытыговорит одна вечереет и моет другая рукии сменяет музу раздражённой заботыМеланхолия муза скукипотому что выцвести даже горюудаётся со временем и на склонеснится Исмене поездка к морюи могила прибранная Антигоне




