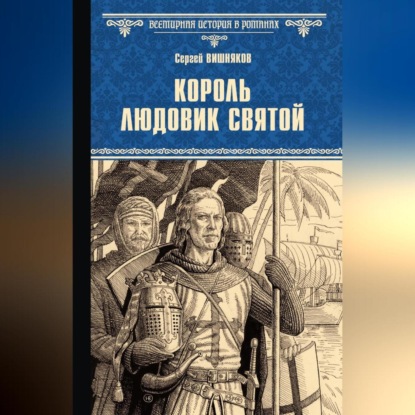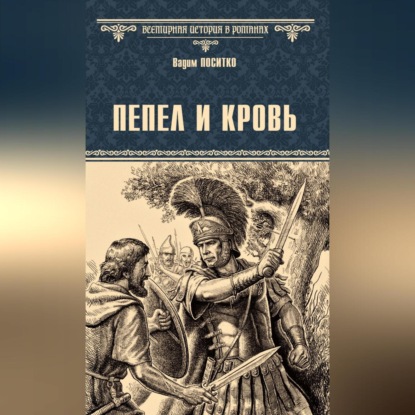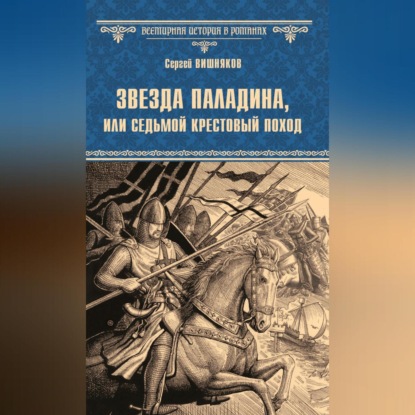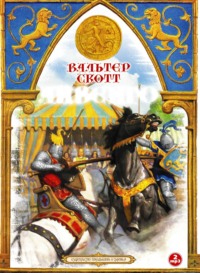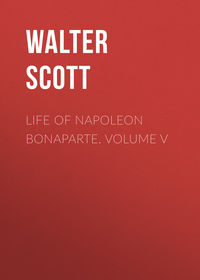Полная версия
Квентин Дорвард

Вальтер Скотт
Квентин Дорвард
© ООО «Издательство «Вече», 2016
* * *Об авторе
Имя Вальтера Скотта хорошо известно русским читателям, почти так же хорошо, как шотландским, английским, французским и другим любителям книги. Этот великолепный прозаик, романтический поэт, серьезный историк, известный собиратель древностей и преуспевающий адвокат считается основоположником исторического романа в его современном понимании. Он родился в Эдинбурге в семье юриста 15 августа 1771 г. В январе следующего года младенец заболел детским параличом, в результате чего остался на всю жизнь хромым. Уже в ранние годы Вальтер (а точнее – Уолтер) поражал родных и близких живым умом и феноменальной памятью. В колледже мальчик окреп, увлекся горным туризмом (как сказали бы мы сейчас), много читал, предпочитая старинные шотландские баллады и стихи немецких романтиков. Переводом баллад одного из них, Готфрида Бюргера, начался литературный путь В. Скотта. В 1792 г. юноша получает диплом адвоката. Профессия позволяет ему ездить по стране, по обе стороны так называемой Шотландской границы. В каждой поездке молодой адвокат находил время для записи народных баллад и легенд. В те же годы Вальтер пережил несчастную любовь. Следы этого увлечения можно найти во многих романах писателя. В 1800 г. Скотт публикует первое собственное сочинение, балладу «Иванов вечер». Спустя два года он выпускает сборник «Песни Шотландской границы», где наряду с собранным народным фольклором публикует и собственные стихи. В 1805 г. выходит «Песня последнего менестреля», а в 1808 г. – роман в стихах «Мармион». К тому времени молодой адвокат женился на Шарлотте Карпентер (1807) и поселился в собственном поместье Эбботсфорд, перестроенном под романтический замок. Здесь, в сущности, и родились произведения, принесшие В. Скотту всемирную известность, – его исторические романы. Первым успехом стал «Уэверли», опубликованный в 1814 г. За ним последовали «Гай Мэннеринг», «Антиквар», «Пуритане», «Роб Рой» и др. Последний роман («Осада Мальты») вышел в год смерти писателя, в 1832 г. Всего Скоттом написано 28 романов, множество повестей, литературно-критических статей, исторических трудов (таких, как «Смерть лорда Байрона», «Рассказы из истории Франции», «Жизнь Наполеона Бонапарта», «История Шотландии»). Интересно, что до 1827 г. романы Вальтера Скотта выходили без указания имени автора! Писатель очень много и напряженно работал; видимо, это и стало причиной апоплексического удара, перенесенного в 1830 г., за которым последовали еще два. Писатель, ставший национальной гордостью шотландцев, умер от инфаркта 21 сентября 1832 г. в своем поместье. Слава его романов быстро докатилась до России, и книги знаменитого романиста выходили почти одновременно с британскими изданиями. Не одна Россия была очарована Вальтером Скоттом. И популярность писателя не ограничивалась литературой. К примеру, в XIX веке сюжеты В. Скотта стали основой таких превосходных лирических опер, как «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти, «Женщина с озера» Дж. Россини, «Пертская красавица» Ж. Бизе. В ХХ веке по мотивам исторических романов шотландского гения снято немало кинофильмов, причем лидируют здесь сюжеты романов «Айвенго» и «Роб Рой». Лента про Айвенго снята и отечественными кинематографистами. Ну а литературные оригиналы героев Вальтера Скотта продолжают увлекать и в XXI столетии читателей всех континентов планеты.
Анатолий МосквинИзбранная библиография Вальтера Скотта:Уэверли, или Шестьдесят лет назад (Waverley, 1814)
Гай Мэннеринг, или Астролог (Guy Mannering, 1815)
Чёрный карлик (The Black Dwarf and The Tale of Old Mortality, 1816)
Антиквар (The Antiquary, 1816)
Пуритане (The Tale of Old Mortality, 1816)
Роб Рой (Rob Roy, 1817)
Эдинбургская темница (The Heart of Midlothian, 1818)
Айвенго (Ivanhoe, 1819)
Ламмермурская невеста (The Bride of Lammermoor, 1819)
Легенда о Монтрозе (A Legend of Montrose, 1819)
Монастырь (The Monastery, 1820)
Аббат (The Abbot, 1820)
Кенилворт (Kenilworth, 1821)
Пират (The Pirate, 1822)
Приключения Найджела (The Fortunes of Nigel, 1822)
Певерил Пик (Peveril of the Peak, 1822)
Квентин Дорвард (Quentin Durward, 1823)
Сент-Ронанские воды (St. Ronan's Well, 1824)
Редгонтлет (Redgauntlet, 1824)
Обрученная (The Betrothed, 1825)
Талисман (The Talisman, 1825)
Вудсток, или Кавалер (Woodstock, 1826)
Пертская красавица, или Валентинов день (The Fair Maid of Perth, 1828)
Карл Смелый, или Анна Гейерштейнская, дева Мрака (Anne of Geierstein, 1829)
Замок опасный (Castle Dangerous, 1831)
Граф Роберт Парижский (Count Robert of Paris, 1832)
Осада Мальты (The Siege of Malta, 1832)
Предисловие к «Квентину Дорварду»
[1]
{1}
Действие романа относится к пятнадцатому столетию, когда феодальная система, которая была двигательной силой и нервом национальной обороны, и дух рыцарства, оживлявший и вдохновлявший эту систему, начали изменяться под влиянием более грубых людей, сосредоточивших свое внимание на достижении личных целей и видевших именно в этом свое счастье. Разумеется, подобный эгоизм проявлялся и в более ранние эпохи, но только теперь впервые он провозглашался открыто, как признанный метод поведения. Дух рыцарства обладал тем достоинством, что, какими бы натянутыми и фантастическими ни казались нам многие из его доктрин, все они основывались на великодушии и самоотречении, то есть на качествах, без которых было бы трудно понять наличие добродетели среди людей.
Среди тех, кто первым стал высмеивать и отвергать эти принципы самоотречения, на которых воспитывались и тщательно готовились юные рыцари, главным был Людовик XI{2}, король Франции. Монарх этот, наделенный характером в высшей степени эгоистичным, неспособный предпринять что-либо, не связанное с его честолюбием, алчностью или тягой к наслаждениям, кажется чуть ли не воплощением самого дьявола, которому дозволено все, что способно загрязнить самый источник наших представлений о чести. При этом нельзя забывать, что Людовик в высокой степени обладал язвительным остроумием, способным осмеять все, что предпринимает человек для блага других, без выгоды для себя. Таким образом, король был превосходно подготовлен к тому, чтобы играть роль бессердечного и глумливого друга.
В этой связи мне кажется, что гётевская концепция характера и мыслей Мефистофеля, духа-искусителя из своеобразной драмы «Фауст», более удачна, чем образ, созданный Байроном, и даже чем Сатана Мильтона{3}. Два последних великих автора придали духу зла нечто такое, что возвышает и облагораживает его порочность – несгибаемое и непобедимое сопротивление самому Всевышнему, величественное презрение к страданию вместо покорности и все те привлекательные черты, которые побудили Бёрнса и других считать Сатану подлинным героем «Потерянного рая». Напротив, великий немецкий поэт представил своего духа обольщения как существо вообще совершенно бесстрастное, которое служит лишь для того, чтобы увеличивать путем искушения и уговоров общую массу морального зла. Своими соблазнами он пробуждает дремлющие страсти, которые в ином случае не помешали бы человеку, ставшему объектом махинаций духа зла, провести в спокойствии свою жизнь. Для этой цели Мефистофель, подобно Людовику XI, наделен острым, пренебрежительным и язвительным умом, которым неизменно пользуется, чтобы обесценить и унизить любой поступок, не ведущий прямо и наверняка к самовознаграждению.
Даже автору чисто развлекательных сочинений может быть дозволено стать на время серьезным, если он хочет осудить любую политику – частного или государственного характера, которая основывается на принципах Макиавелли{4} или на поступках Людовика XI.
Жестокости, клятвопреступления, подозрительность этого государя не только не смягчались, но становились еще отвратительнее из-за грубого и унизительного суеверия, которое он выказывал при любых обстоятельствах. А его набожность в отношении святых угодников, которую он так любил выставлять напоказ, покоилась на жалком убеждении, достойном разве какого-нибудь мелкого клерка, который силится скрыть или загладить свои злоупотребления, принося щедрые дары людям, поставленным наблюдать за его поведением. Таким способом он пытается продолжать свои мошенничества, стараясь подкупить неподкупных. Как иначе можем мы относиться к тому, что Людовик произвел Деву Марию в графини и назначил ее капитаном своей гвардии… Или к его коварству, которое допускало, что только одна или две особые формы клятвы имели для него связующую силу, а все остальные – никакого значения; при этом он тщательно держал в секрете, как самую важную государственную тайну, какую именно форму клятвы он считает для себя обязательной.
С полным отсутствием совестливости или, как мы увидим, чувства нравственного долга Людовик соединял огромную прирожденную силу характера и проницательность; он проводил свою политику так тонко, если принять во внимание его эпоху, что иногда сам впадал в заблуждение, следуя ее предписаниям.
Вероятно, в любом из темных портретов можно найти и более светлые оттенки. Людовик хорошо понимал интересы Франции и усердно защищал их, покуда они совпадали с его личными интересами. Он благополучно провел страну сквозь опасный кризис войны, прозванной «войной за общее благо». В ходе ее он расторгнул и рассеял могучий и опасный союз крупнейших королевских вассалов Франции, направленный против их сюзерена; король с менее осторожным и выжидательным характером, более смелый, но не столь изворотливый, как Людовик XI, по всей вероятности, потерпел бы здесь неудачу. Были у Людовика и некоторые личные качества, не противоречившие его общественному положению. Так, например, он бывал весел и остроумен в компании. Он бывал нежен со своей жертвой, подобно кошке, которая иногда ластится, готовясь нанести опаснейшую рану. И никто не мог лучше, чем он, оправдывать и приукрашивать грубые и эгоистичные мотивы своих поступков, мотивы, которыми он старался заменять благородные побуждения, какие его предшественники черпали из высокого духа рыцарства.
Но действительно, эта система уже отживала свой век, да и в пору своего расцвета она была слишком вымученной и фантастической в своих основах, и как только, подобно другим древним обычаям, она стала утрачивать былую славу, на нее обрушились насмешки, которые теперь уже не вызывали ужаса и отвращения, как в прежние времена, когда их сочли бы кощунством. Уже в четырнадцатом веке появились хулители и насмешники, предлагавшие заменить все, что было полезного в рыцарстве, другими принципами; они высмеивали сумасбродные кастовые правила чести и нравственности, открыто называли их нелепыми, да и, по правде сказать, они действительно имели форму слишком уж возвышенную для обыкновенных смертных. Если какой-нибудь бесхитростный и отважный юноша собирался ограничиться отцовскими правилами чести, его грубо высмеивали, как если бы он вышел на бой, вооруженный добрым старым рыцарским Дуриндарте{5}, или двуручным мечом, выглядевшим нелепо из-за своей древней формы и отделки, даже если его клинок был закален на Эбро{6}, а чеканка – чистого золота.
Так были отброшены в сторону все заветы рыцарства – их заменили более низменные побуждения. Вместо высокого мужества, побуждавшего каждого быть в первых рядах при защите родины, Людовик XI прибегнул к помощи всегда готовых наемных солдат и при этом убедил своих подданных (среди них уже заметно выдвигалось торговое сословие), что лучше предоставить наемникам риск и тяготы войны, платя государству за их содержание, нежели лично подвергаться опасности, защищая свое имущество. Купцы легко согласились с такими соображениями. Правда, в дни Людовика XI еще не настало время, когда можно было бы таким же способом удалить из рядов войск помещиков и дворянство, но лукавый монарх положил начало порядку, который при его преемниках привел в конце концов к переходу всей военной мощи государства в руки короля.
Столь же оригинальным был Людовик, когда изменял правила, регулирующие отношения между обоими полами. Доктрины рыцарства устанавливали, по крайней мере в теории, такую систему: Красота является верховным и воздающим божеством, а Доблесть – ее рабыней, послушной ее взгляду, готовой отдать жизнь ради малейшей услуги. Говоря по правде, эта система, как и в других областях, доходила до фантастических нелепостей, и нередко возникали скандальные дела. Все же они чаще всего напоминали то, о чем говорит Берк{7}, – нравственная неустойчивость наполовину искупалась отсутствием всякой грубости. Совсем по-другому получалось у самого Людовика XI. Он был низменным сладострастником, искавшим наслаждения без чувства любви и презиравшим тех женщин, у которых требовал наслаждения. Его любовницы принадлежали к низшему сословию, и их так же трудно сравнивать с возвышенной, хоть и небезупречной личностью Агнесы Сорель{8}, как и самого Людовика – с его героическим отцом, который освободил Францию от угрожавшего ей британского ига.
Точно так же, выбирая своих фаворитов и министров среди подонков, Людовик показывал, как мало уважения испытывает он к высокому положению и благородству происхождения. Это могло быть не только простительно, но даже похвально, если бы королевский указ выдвигал неизвестный талант или скромное достоинство. Но совсем иначе получалось, когда король делал своими любимыми помощниками людей вроде Тристана Отшельника{9}, начальника его Маршалси{10}, или его полиции. И было совершенно очевидно, что такой монарх не может быть «первым дворянином в своих владениях», как элегантно называл себя его потомок Франциск{11}.
Поступки и речи Людовика – интимные и общественные – были не таковы, чтобы загладить столь грубые нарушения порядочности. Верность слову, которая обычно считается самой священной чертой человеческого характера и малейшее нарушение которой является серьезнейшим проступком против кодекса чести, нарушалась Людовиком без зазрения совести при малейшей возможности, и это нередко сопровождалось чудовищными преступлениями. Попирая свои личные обещания, он так же бесцеремонно относился к обязательствам государственным. Так, например, отправка к английскому королю Эдуарду IV{12} какого-то незначительного человека, переодетого герольдом, была дерзким обманом в те времена – ведь герольды считались священными носителями государственного и национального достоинства. Мало кто отважился бы на такой поступок, кроме этого беспринципного монарха.
Короче говоря, манеры, чувства и поступки Людовика XI были несовместимы с духом рыцарства, а его язвительное остроумие было слишком склонно высмеивать систему, покоящуюся на самом абсурдном, по его мнению, фундаменте, поскольку она исходила из того, что труд, талант и время должны посвящаться достижению целей, от которых, по сути дела, нельзя было ожидать личных выгод.
Весьма вероятно, что, отвергая, таким образом, почти открыто узы религии, чести и нравственности, под влиянием которых живет род человеческий, Людовик надеялся добиться значительных преимуществ в своих сношениях с другими сторонами, поскольку те считали себя морально связанными, а он пользовался свободой. Ему могло казаться, что он начинает скачку подобно наезднику, освободившемуся от «уравнительного груза»{13}, в то время как его соперники все еще обременены, и поэтому, конечно, может рассчитывать на успех. Но, должно быть, Провидение всегда соединяет наличие особой угрозы с каким-либо обстоятельством, способным насторожить тех, кто находится в опасности. Постоянное подозрение, сопровождающее каждого общественного деятеля, стяжавшего дурную славу из-за нарушения своих обязательств, оказывается для него чем-то вроде колец погремушки на хвосте ядовитой змеи. И в конце концов люди начинают считаться не с тем, что говорит их противник, а скорее с тем, что он, по-видимому, намерен свершить. Такая степень недоверия перевешивает интриги беззастенчивого деятеля, уничтожает преимущества, какие давало ему отсутствие щепетильности, свойственной людям совести. Пример Людовика XI возбудил среди других наций Европы скорее отвращение и подозрения, нежели желание ему подражать, а случаи, когда ему удавалось перехитрить немало своих современников, побудили других быть настороже. Даже и сама концепция рыцарства, хоть и не столь распространенная, как прежде, пережила царствование этого распутного монарха, так много сделавшего, чтобы запятнать ее славу, и еще долго после смерти Людовика XI вдохновляла Рыцаря без страха и упрека{14}, а также отважного Франциска I. И наконец, хотя царствование Людовика с политической точки зрения протекало так успешно, как ему самому хотелось, но зрелище его кончины могло послужить предостережением для всех, кого соблазнял пример этого государя. Подозревая всех и каждого, а главным образом – собственного сына, он укрылся в замке Плесси, целиком доверив свою особу сомнительной преданности шотландских наемников. Он никогда не выходил из комнаты, никого не пускал к себе и утомлял Небо и всех святых молитвами – не о прощении грехов, но о продлении своей жизни. С умственным убожеством, которое так не вязалось с его острой проницательностью в делах, он приставал к своим врачам, пока они не начали оскорблять и обирать его. В своем безграничном желании продлить жизнь он посылал в Италию за какими-то мощами и – верх странности! – приказал доставить оттуда одного невежественного, слабоумного крестьянина{15}, который (должно быть, по лености) заточил себя в пещере и отказался от мяса, рыбы, яиц и молока. Этого человека, не владевшего даже основами грамоты, Людовик почитал, как если бы он был самим Римским Папой, и, чтобы добиться его расположения, основал два монастыря!
Не менее странной чертой этого суеверия было то обстоятельство, что целью короля было исключительно телесное здоровье и земное благополучие. Было строжайше запрещено малейшее упоминание о его грехах, когда речь заходила о состоянии здоровья. И когда однажды по его приказанию священник читал молитву святому Евтропию{16}, в которой угоднику поручалось благополучие короля – «телесное и духовное», Людовик велел пропустить два последних слова, говоря, что неосторожно надоедать блаженному Евтропию многими просьбами сразу. Быть может, он думал, что, храня молчание о своих преступлениях, он дождется, пока они исчезнут из памяти его небесных покровителей, чья помощь нужна ему для выздоровления.
Так велики были заслуженные муки этого тирана на смертном ложе, что Филипп де Комин{17}, тщательно сопоставляя его страдания со множеством жестокостей, причиненных им, высказал мнение, что угрызения совести и агония Людовика могли бы уравновесить преступления, им совершенные. И что после соответствующего пребывания в чистилище он мог быть помилован и попасть в рай.
Фенелон{18} также оставил свидетельство против этого монарха, описав его образ жизни и правление в нижеследующем замечательном отрывке:
«Пигмалион, терзаемый ненасытной жаждой обогащения, становится все несчастнее и все ненавистнее своим подданным. Иметь богатство стало в Тире преступлением: скупость делает короля недоверчивым, подозрительным и жестоким; он преследует богатых и страшится бедных.
Еще большим преступлением стало в Тире быть добродетельным, ибо Пигмалион считает, что добродетельные люди не захотят терпеть его несправедливости и жестокости; добродетель обличает его, и он взирает на нее с опасением и злобой. Все беспокоит, раздражает, терзает его; он боится собственной тени, не спит ни днем ни ночью. Чтобы погубить его, боги даруют ему сокровища, которыми он не смеет наслаждаться. Он хочет быть счастливым – и стремится именно к тому, что не может дать счастья. Он вечно жалеет о том, что отдал, вечно боится лишиться чего-нибудь и выбивается из сил, чтобы еще что-то приобрести.
Он почти не бывает на людях: одинокий, угрюмый, мрачный, он прячется где-то в глубине своего дворца; даже друзья не смеют приблизиться к нему, чтобы не навлечь на себя подозрения. Его дом окружен грозной стражей с поднятыми копьями и мечами наголо. Он сделал своим убежищем тридцать комнат, сообщающихся между собой и запирающихся каждая железной дверью с шестью большими засовами. Никто не знает, в какой из этих комнат он ночует; уверяют, что он не спит в одном и том же помещении и двух ночей подряд из боязни, что его задушат. Ему неизвестны ни пленительные удовольствия, ни еще более сладостная дружба. Когда ему советуют искать радости, он чувствует, что радость бежит от него и отказывается войти в его сердце. Его впалые глаза горят жадным и диким огнем; он беспрестанно оглядывается по сторонам, прислушивается к малейшему шуму, вздрагивает при каждом шорохе. Он бледен, его волосы и одежда в беспорядке, тяжелая забота отражается на его постоянно нахмуренном лице. Он молчит, вздыхает, испускает из глубины сердца стоны, он не может скрыть терзающих его угрызений совести. Самые изысканные кушанья кажутся ему отвратительными.
Родные дети внушают ему не надежду, но страх: он сделал их своими опаснейшими врагами.
За всю свою жизнь он не знал ни минуты уверенности, он держится, только проливая кровь всех тех, кого боится.
Безумный! Он не видит, что жестокость, в которой он замкнулся, приведет его к гибели. Кто-нибудь из его слуг, такой же подозрительный, как и он сам, поспешит избавить мир от этого чудовища».
Поучительное, но отталкивающее зрелище страданий тирана закончилось наконец смертью 30 августа 1485 года{19}.
Выбор такой примечательной личности в качестве героя романа (ибо легко понять, что скромная любовная интрига Квентина использована всего лишь как способ развернуть повествование) предоставил автору значительные возможности.
На протяжении пятнадцатого столетия вся Европа содрогалась от распрей, вызванных столь разнообразными причинами, что потребовался бы, наверно, целый трактат, чтобы заставить здравомыслящего английского читателя поверить в возможность таких странных происшествий.
Во времена Людовика XI по всей Европе было особенно много потрясений. Гражданская война в Англии{20} закончилась, но скорее по видимости, чем в действительности, благодаря кратковременному воцарению Йоркской династии{21}. Швейцария утверждала свою свободу{22}, которую она впоследствии так доблестно защищала.
В Германской империи и во Франции крупные вассалы короны пытались уклониться от ее контроля, тогда как Карл Бургундский{23} – с помощью силы, а Людовик – более тонко, косвенными путями, старались подчинить их и поставить на службу сюзеренам. Людовик, с одной стороны, обманывал и принуждал собственных мятежных вассалов, с другой же – помогал и поощрял большие торговые города Фландрии на восстание против герцога Бургундского – к этому их побуждало и накопление богатства, и самолюбивое тщеславие.
А в лесистых округах Фландрии герцог Гельдернский{24} и Гийом де ла Марк{25}, прозванный за свою жестокость Диким Арденнским Вепрем, отбросили привычки рыцарей и джентльменов, чтобы свободнее творить насилия и жестокости, подобно обыкновенным бандитам.
Сотни секретных комбинаций осуществлялись в различных провинциях Франции и Фландрии; многочисленные личные эмиссары неутомимого Людовика – цыгане, пилигримы, нищие или агенты, соответственно переодетые, – проводили политику короля, сея недовольство во владениях Бургундии.
Среди такого изобилия исторических фактов трудно было выделить наиболее понятное и интересное для читателя. И автору приходится сожалеть, что хотя он и широко пользовался своим правом отступать от исторической действительности, он все же далеко не уверен, что ему удалось придать своему повествованию приятную, сжатую и достаточно вразумительную форму.
Главная пружина сюжета такова, что ее легко поймет всякий, кто немного знаком с феодальной системой, хотя факты здесь целиком вымышлены. Власть феодального сеньора ни в чем не встречала такого полного и всеобщего признания, как в его праве распоряжаться браками женщин-вассалов. Правда, тут можно усмотреть и некое противоречие с гражданским и церковным правом, которые провозглашают, что брак должен быть свободным, тогда как феодальная или муниципальная юриспруденция признает (в том случае, когда лен перешел к женщине) право сеньора определять ее выбор супруга. Это объясняли, исходя из принципа, что сеньор в своей щедрости был первоначальным дарителем лена и всегда заинтересован в том, чтобы брак вассала не давал право на лен лицу, враждебному его сеньору. С другой стороны, есть основание утверждать, что правом до известной степени распоряжаться рукой женщины-вассала обладал лишь тот сеньор, который был первоначальным дарителем лена. Поэтому нет резкого неправдоподобия в том, что вассал Бургундии ищет покровительства у короля Франции, который был сюзереном самого герцога Бургундского. Нет особенной натяжки и в том, что Людовик, всегда неразборчивый в средствах, мог составить план, как завлечь беглянку в брачный союз, который мог бы оказаться неудобным или даже опасным для его грозного родственника и вассала, герцога Бургундского.