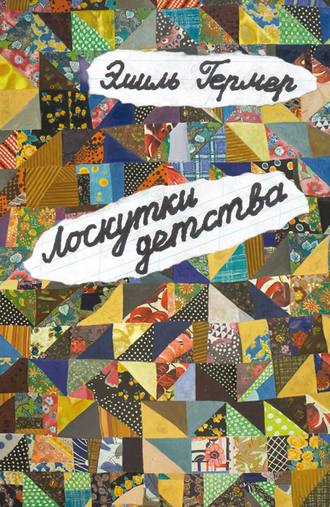
Полная версия
Лоскутки детства
Потом в той же последовательности осваивалась пятиметровая вышка. А вот на десятиметровой я смог только стоять на краю, крепко держась за поручень – на большее духу так и не хватило.
Тем не менее, основная цель была достигнута – летом, на природе я убедился, что высотобоязнь наконец-то отпустила меня, причем вроде бы окончательно и бесповоротно.
Кстати, в бассейне, с чувством немалого удовлетворения, я смог убедиться, что высоты боятся почти все – правда, в разной степени.
Закончу этот сюжет одной странной небольшой историей, которую рассказал мне Виктор Павлович.
Как-то в бассейн привели группу летчиков – в числе прочих спортивных нормативов от них требовалось выполнить прыжок в воду с вышки. Причем достаточно было прыжка и с трехметровой, а от самого прыжка требовался только факт его осуществления, и не более того. Виктор Павлович, в общем-то повидавший много разных «прыгунов», был поражен, видя как эти здоровые молодые мужики, летающие на высотах в тысячи метров, мобилизовав всю силу воли, с дрожью в коленках выходили на подкидную доску. Выпучив от страха и напряжения воли глаза, судорожно сглотнув, они рушились с высоты всего трех метров стилем «падающего куля». Выныривая, они с радостными лицами, что остались живы, растерянно суетились в воде, в первый момент не соображая куда плыть к бортику.
Эта историйка добавила еще несколько капель бальзама на мое больное самолюбие, которое столько лет страдало от неполноценности, стоившей мне таких переживаний.
…Так что теперь пройти по канату между двумя небоскребами… я, пожалуй, еще не решусь, но прогуляться по краю глубокого обрыва, или по доске перебежать пару метров над трех-четырех метровой высотой, не потеряв сознания, – это пожалуйста. Это хоть сейчас!
Жертва любви
– Ах, ну что это такое, в самом деле…! Что за безобразие! Стучаться надо!.. – собиралась возмущенно воскликнуть наша молодая (хотя, пожалуй, уже не очень) соседка, стоя голая в ванне. Затем по ее сценарию она протянет руку и захлопнет дверь, оставленную ею незапертой как бы по «естественной девичьей рассеянности». За те пару секунд, что потребуются на произнесение этих «реплик», молодой, и, как тогда говорили, свободный сосед, делавший в это время «мокрую уборку» в своей комнатушке (которому по ее расчетам вот-вот должна была потребоваться вода), должен был успеть увидеть, оценить и навечно запечатлеть в своей памяти во всей их красоте и цельности, ее женские прелести. Предполагалось, что позднее, лежа руки за голову и с папиросой во рту на своем продавленном диване, он будет мучиться любовной тоской, вспоминая эти самые прелести. И наконец-то перейдет к более активным, и, главное, конкретным действиям.
Но, увы! Мечты и действительность редко совпадают. Наверно поэтому, в силу известной детской манеры соваться куда и когда не надо, в незапертую дверь ванной раньше соседа, совершенно не по сценарию, заглянул я – на короткое время ускользнувший от родительского внимания и слонявшийся по квартире. Будучи уверенной, что по крайней мере первая часть ее плана удалась, уже намыленная соседка прекрасно сыграла заготовленную фразу. Грациозно, по-девичьи стыдливо прикрыв левой рукой самое дорогое, что дала ей природа, правой она «возмущенно» захлопнула приоткрывшуюся дверь.
Этим своим неуместным детским любопытством я не только преступно испортил всю, так тщательно продуманную мизансцену, но и исковеркал личную жизнь соседки. А также нелишнюю часть своего мелкого существа – моя недостаточно быстрая реакция привела к тому, что захлопнутая с немалой силой дверь прищемила мне палец. Мой вопль, переходящий в непрерывный рев внушительной мощности, исторгнутый из самой глубины детского организма, никогда не испытывавшего подобной боли, остановил на секунду сердца моих родителей и обычную жизнедеятельность всей квартиры. С поднятой, как красное знамя во время маевки, окровавленной руки стекала (и довольно обильно) на пол свежая детская кровь! Подскочившая мама молниеносно туго замотала мне руку первой попавшейся чистой на вид тряпкой. Папа схватил меня в охапку и помчался в ближайшее лечебное учреждение. Слава богу, оно было за ближайшим углом, на Литейном – Мариинская больница. Папа был воплощенная «Скорая помощь» по всем параметрам: по скорости движения, по звуковому сопровождению, которое осуществлял я своим истошным, непрерывным воем, и по реакции прохожих, шарахавшихся во все стороны, уступая нам дорогу…
Вот такая вот история случилась со мной в четыре года, перед самой войной.
Я давно простил тебя, глупая, невнимательная женщина! Только не могу понять кой черт я вынужден с тех пор пожизненно носить память о тебе – продольный шрам на изуродованном тобой среднем пальце правой руки.
Война!
ОНА была там, и была здесь,
Вокруг была только ОНА,
Не хватало времени спать,
и еды, чтобы есть —
Ведь это была ВОЙНА!
Эвакуация
Со времен карет и ломовых извозчиков на расстоянии чуть-чуть меньшем ширины подворотни, – как со стороны улицы, так и со стороны двора, – стояло по паре каменных тумб высотой около полуметра. Они устанавливались, что бы в подворотню не въехала слишком широкая карета или телега, и не ободрала бы ее стенки и свои бока. Первое мое детское военное впечатление связано как раз с такой тумбой. На ней сидел пожилой, усатый сосед с ответственным лицом. В какой-то странной шапке – кепка ни кепка, фуражка ни фуражка, одно слово – шапка. Он был перетянут поверх пиджака солдатским ремнем, с красной повязкой на рукаве (дежурный). Но, главное, – с увиденной мною впервые противогазной сумкой защитного цвета, одетой наискосок через плечо. И с какой-то, тогда еще непонятной мне, вылезающей из сумки гофрированной трубкой.
А еще почему-то я запомнил, как знакомая мне в лицо девушка с нашего двора гордо и возбужденно рассказывала подруге, как помогала таскать на чердак песок, чтобы тушить зажигалки. Мне было непонятно почему зажигалки надо тушить песком – ведь все всегда тушат водой. Может потому и запомнил.
Помню окна домов, зачем-то оклеенные крест-накрест бумажными лентами. Как я узнал позже, – чтобы не разлетались стекла, если они разобьются взрывной волной при бомбежке или артобстреле…
Следующее воспоминание: мы с мамой едем в оборудованной нарами «теплушке» – грузовой дощатый вагон коричневого цвета с откатными дверями для перевозки чего угодно: людей, лошадей, техники. Нам принадлежит на верхних нарах площадь примерно 1,5 на 0,8 метра (это, конечно, при трансформации моих тогдашних зрительных впечатлений в сегодняшние, уже количественные). Содержимое теплушки – сплошь женщины с детьми разного возраста. Все взволнованы, внутренне напряжены и, как ни странно, довольно молчаливы. Никто не конфликтует; дети, чувствуя состояние взрослых, почти не капризничают и не балуются. Да и баловаться негде – все утрамбовано до предела. Ни бабушки Сони, ни Люли (мамины мама и сестра, жившие от нас отдельно, на Невском), ни, тем более, папы с нами почему-то нет.
2006-ой год. После маминой смерти разбираю оставшиеся после нее многочисленные письма, записки, справки, скопившиеся за всю ее долгую жизнь – выкидывать даже мелкие свидетельства своей жизни мама не любила. Передалась эта черта и мне. У меня она явно гипертрофированная и к тому же бесполезная – знаю, что мои сыновья сгребут в кучу, не разбирая, оставшийся от меня подобный бумажный «хлам», и выкинут его на помойку. И рука не дрогнет. И даже не задумаются, что это ведь какие-то меты жизни их отца, а также деда, прадеда, бабушек, прабабушек, – короче, их же собственных предков. Деловые, прагматичные детки. Не в их правилах сентиментальничать в подобных случаях. Достаточно вспомнить, как мой младшенький понуждал меня к подобным действиям, когда стало ясно, что из-за этой моей «плюшкинской» привычки я чересчур задерживаю освобождение маминой квартиры, предназначенной для обмена, в котором он был заинтересован.
…Рассматриваю каждую бумажку – сколько воспоминаний рождают многие из них, особенно относящиеся к моему детству, к годам войны. Сам удивляюсь сколько, оказывается, может сохранить память даже четырех – восьмилетнего ребенка (мой возраст времен войны). А сколько нового из жизни родителей узнаю́… Но все оставить не могу – что-то и мне придется выкинуть, – объемы для хранения в однокомнатной квартире серьезно ограничивают мою склонность семейного «архивариуса». Какое это мучительное и трудное занятие – сортировать материнский архив с обязательным условием избавиться от его части!..
Среди пожелтевших записок, справок вдруг нахожу совершенно новехонький небольшой картонный билет. Типа тех, что еще недавно было достаточно для проезда даже в поезде дальнего следования (чуть позднее эти картонные прямоугольнички все равно выдавались вместе с полномасштабным бумажным железнодорожным билетом). Смотрю, – билет для проезда на пассажирском пароходе по маршруту Астрахань-Баку. В Баку после войны мама не была ни разу. Я бывал, но последний раз это было четверть века назад, а предпоследний – еще лет за пятнадцать до этого… И всегда только самолетом или поездом. А Астрахань тут причем? В Астрахани, насколько я помню, ни мама, ни я вообще не были ни разу. Что за ерунда? Чей это совсем новенький билет она хранила?? И тут мне, наконец, пришла в голову мысль взглянуть на дату отправления, которая на таких билетах пробивалась дырочками специальным компостером. Что за чушь? – вдоль верхней кромки билета четко выбито – «25 VIII 41». Я замер в недоумении… И тут я вспомнил! Причем так ясно, как будто это было вчера, а мне было не четыре года, а, по крайней мере, сорок.
Поездом ехали трудно, нудно и много дней. Приехали в Астрахань. Оттуда – в темном трюме грузовой баржи, буксируемой пароходиком. Опять незнакомые, но уже другие женщины, дети, разбросанные в темном трюме баржи вперемешку с собственными вещевыми узлами и чемоданами. Здесь еще более тесно и душно, чем в теплушке, – все лежат просто вповалку. Эту поездку в барже вспомнил так ясно наверно еще и потому, что уж очень необычным и страшноватым было это морское «путешествие». Впервые в жизни испытал морскую болезнь, длившуюся на протяжении всего морского перехода, продолжавшегося с редкими остановками двое или трое суток. Мамочка всю дорогу пыталась отвлечь меня всякими разговорами, меняла на лбу мокрые тряпки, подставляла какую-то миску, когда меня выворачивало наизнанку от постоянного головокружения, хотя и самой было несладко. Но ведь мама!
Наконец, Баку! Баку – родина папы и мамы. Но маминых близких здесь давно уже нет, а вот папины почти в полном комплекте: бабушка Лена, тетя Оля, тетя Лина с мужем – дядей Мишей (дедушка умер относительно недавно – за год до моего рождения).
Мои бакинские родственники видели меня (да, кажется, и маму) впервые. Папина родительская семья дружная, все очень любят друг друга. А папу особенно, поскольку он – младшенький. К тому же единственный сын, и единственный брат у двух сестер. Естественно, эта безграничная родственная любовь была перенесена и на меня с мамой. Еще бы – Исенькин (уменьшительное от Исаак) сын! Да еще такой красавчик – с белокурыми локонами и голубыми глазенками… К тому же я был единственным ребенком во всей семье – у тети Лины и дяди Миши дети не получались, а тетя Оля замужем не была (да так никогда и не вышла). Вокруг нас с мамой поднялось неслыханное кудахтанье и суета; нас отмыли, накормили и уложили спать на чистые простыни. Видимо вследствие контраста с только что пережитым, эти свежие, хрустящие простыни особенно врезались в память.
Сколько дней мы пробыли в Баку – не помню. Память сохранила только два, совершенно неравнозначных сюжета.
Первый: я сижу на крытой веранде (она же коридор) второго этажа, выходящей во внутренний двор, и смотрю вниз. Там, по пятнистому от солнечных пятен двору, важно, неторопливо, как-то по-хозяйски шествует какое-то совершенно незнакомое существо; как потом узнал – черепаха. Двор большой. В углу – навес из реек, по которым вьются виноградные ветви с большими, красивыми листьями и уже с гроздьями.
Восемь лет спустя я опять увидел этот двор. Какой там двор! Крошечный внутренний дворик метров тридцать квадратных. Но навес с виноградными гроздьями оказался таким, как я его запомнил первый раз – весь такой уютный и знакомый.
А вот второй сюжет. В какую-то из ночей я проснулся от яркого электрического света и негромкого разговора. Мама – в наспех надетых юбке и кофточке; тут же тетя Лина в каком-то невзрачном халатике. Она взволнованно что-то говорила, обращаясь к двум молчаливым, строгим мужчинам, одетым во что-то полувоенное, – кажется просила не разбудить ребенка… Но ребенок уже проснулся, и глядел вокруг, ничего не понимая со сна, и вообще… Тетя Лина нервно, но стараясь сдерживаться, что-то спрашивала у незнакомцев. Они ничего ей не отвечали, и вообще старались не встречаться с ней взглядом. Из соседней комнаты вышел одетый дядя Миша, поцеловал тетю Лину, которая почему-то разревелась. Он успокаивал ее, что-то говоря ей каким-то искусственно спокойным тоном. Потом он как-то неуклюже поцеловал в щеку маму, подошел ко мне, чмокнул меня в голову и вышел из комнаты. За ним сразу вышли эти мужчины. Тетя Лина тоже тотчас куда-то ушла. Мама взяла меня к себе в постель, и как-то невразумительно объясняла мне, что за дядей Мишей пришли с работы… Где были баба Лена и тетя Оля – не помню.
Утром все были какие-то подавленные, мрачные. А тетя Лина вдруг заболела, и тетя Оля все время бегала к ней в соседнюю комнату с лекарствами. Дядя Миша почему-то так и не вернулся с работы до самого нашего отъезда.
Больше к этому эпизоду никто не возвращался, но все ходили печальные и какие-то странные. Через день или два мы с мамой поездом уехали в Челябинск, где нас ждал папа.
Это ночное происшествие, хоть и запомнилось, но слишком уж необычным мне, четырехлетнему, не показалось. Только лет пятнадцать спустя, мама мне все объяснила.
Дядя Миша был хороший инженер, с большим опытом работы. Да и вообще настоящих инженеров, с образованием, а не выдвиженцев в инженеры, тогда было маловато. Начальство его ценило – в начале тридцатых годов его даже назначили на весьма ответственный и, главное, высокий по тем временам и в тех местах пост – начальника трамвайного строительства в г. Гянджи (с 1936 по 1989 – г. Кировобад). По теперешним меркам для тех мест это было что-то вроде начальника строительства метрополитена, ну если не Москвы, то, по крайней мере, Петербурга или Нижнего Новгорода. Поэтому у него завелись то ли завистники, то ли недоброжелатели, то ли просто кто-то из сослуживцев вульгарно захотел сесть на его место… Так или иначе, но где-то в 1937-ом или в 1938-ом на него «стукнули», использовав в качестве повода для доноса какую-то сущую ерунду (но не по тем временам) – вроде где-то мельком сказанные, не очень лояльные власти слова. Годы это известные – от НКВД тогда не спасали никакие должности, звания или заслуги. И дядя Миша получил что-то около десятки.
Где-то перед войной, после очередной «пересменки» в органах НКВД, – в данном случае с Ежова на Берию, – новый нарком со своим усатым патроном решили «на минуточку» показать населению, что теперь все будет иначе. По справедливости, с соблюдением норм социалистической законности, – не то, что при этом перерожденце Ежове. И по этому поводу даже выпустили малую толику жертв «ежовского перегиба», в число которых посчастливилось попасть и дяде Мише. Где-то в 1940-ом или даже уже в 1941-ом, он вернулся из «мест не столь отдаленных». Но началась война, и в целях безопасности Отечества было решено этот сомнительный либерализм свернуть. Выпущенных же, на всякий случай опять возвратить туда, откуда их по минутной мягкотелости, несвойственной истинным большевикам, извлекли буквально только что. Вот в этот момент нашей отечественной и семейной истории мы с мамой и оказались в Баку. И стали свидетелями, как дядю Мишу после трех или четырех лет лагеря и буквально считанных месяцев свободы опять водворили на место – «всяк сверчок знай свой шесток».
Такой кульбит не каждая психика выдержит. У дяди Миши – выдержала, а вот у тети Лины – нет. Тогда она и надломилась у нее, имевшей счастье не только быть замужем, но и несчастье горячо любить своего мужа.
…Из лагеря дядя Миша уже не вернулся. Ко мне, после кончины тети Оли в 1967 году, вместе с другими документами перешло выданное в лагере Свидетельство о смерти за № 203: «Гр. Богат Михаил Абрамович скончался 27 марта 1946 года, возраст – 52 года, причина смерти – туберкулез легких», – самая распространенная и по сей день лагерная болезнь. После повторного ареста затруднять себя далекой его транспортировкой они не стали: «Место смерти: г. Нальчик, КАССР». Вот и замкнулся круг ада для одной из песчинок «лагерной пыли» сталинизма: почти в тех же местах, где жил и трудился, где взяли (первый раз), где сидел – там и умер!
Вот так тетя Лина – красавица в молодости, для которой муж всегда был не только любимый человек, но и опора, – осталась одна. Без надежды дождаться его, без профессии и специального образования. По этой причине «уйти с головой в работу» она не могла, а быть приживалкой при родной сестре, вернувшейся с фронта, – не хотела… И когда они после многочисленных запросов получили это самое Свидетельство о смерти дяди Миши, уже надломленная ее психика и нервы не выдержали. Несколько раз тете Оле удавалось предотвратить ее попытки наложить на себя руки. Но в конце концов тетя Лина нашла момент, чтобы свести счеты со ставшей столь постылой жизнью, исковерканной «вождем всего советского народа и прогрессивного человечества» и его подручными, – она повесилась. В свидетельстве о смерти, выданном тете Оле в том же 1951 году, так прямо, без обиняко́в, против графы «причина смерти» написано – асфиксия.
Вместе со свидетельствами о смерти моих близких и прочими бумагами, мне в наследство достались еще и фотографии. На одной из них, около 1924–1926 года, красавица тетя Лина. Ей там чуть за тридцать. Сидит в парке на скамейке, со вкусом одетая, вместе со своим импозантным и, даже прямо скажем, красавцем мужем. Есть фотографии и 1930-х, со строительства этого самого «нальчикского трамвая». На одной из них дядя Миша в кепке и рабочей робе в центре большого, человек в сорок-пятьдесят сугубо мужского коллектива. Есть и другие его фотографии с товарищами по работе. Весьма вероятно, что именно кто-то из запечатленных на них и написал на него донос. Вот бы знать, кто именно. И посмотреть ему в глаза… Пусть хотя бы и на фотографии!
2013-ый год. Я уже второй семестр читаю лекции в этом потоке, и довольно хорошо представляю «ху из ху» из моих студентов. Большинство из них иногородние. Иногда для проверки каких-то своих, не всегда ясных самому умозаключений, спрашиваю кто из них откуда. Вот и сейчас: – Артем, а ты откуда? – Из Гянджи – это город в Азербайджане. – Мой дядя в 30-е годы строил у вас в городе трамвай, большим человеком считался. Его посадили в 37-ом, в годы террора, потом выпустили на чуть-чуть, а после начала войны – опять посадили. Он умер в лагере в 1946-ом. Вот когда будешь дома, и доведется ехать в трамвае, вспомни хотя бы разок о том, что я сейчас рассказал. – Эмиль Исаакович, а у нас в городе нет трамвая. – Как нет?? – Вот так, нет. – А ты давно живешь в Гянджи? – С 99-ого. … Я в некоторой растерянности… – Значит, сняли…
Но был, – ведь у меня есть даже фотоснимок трамвайного вагона на рельсах, положенных на еще не полностью сформированную насыпь, с указанием на обороте места и года.
Такая вот история. Был человек – и нет человека. Ни человека, ни даже следов его дела – может быть важнейшего дела его жизни! «А был ли мальчик??!» – помните, у Горького в «Климе Самгине»?
Челяба
Папа работал в Ленинграде, в 8-ом Государственном проектном институте (8-ом ГПИ), который служил для инженерного обеспечения гиганта советской танково-тракторной индустрии Кировского завода. Оттуда в середине 1930-х вместе с мамой он временно уезжал по трудовому договору на Урал, в г. Каменск (ныне г. Каменск-Уральский), на строительство Уральского алюминиевого комбината. Туда же, в 8-ой ГПИ, он и вернулся за несколько лет до войны. На строительстве они с мамой приобрели лучших друзей на всю последующую жизнь. А в конце своего пребывания там – заодно и меня.
Вскоре после начала войны Кировский завод и все, работавшие на него учреждения города, были эвакуированы в Челябинск (небольшая часть производственных мощностей осталась; во время блокады на Кировском ремонтировали танки и делали еще разнообразную работу для фронта).
Папа еще до нашей эвакуации был отправлен в командировку в г. Барнаул, на Алтае. Мы же в его отсутствие были эвакуированы как члены его семьи. Папа настаивал, чтобы мы, пока он не устроится в Челябинске, ехали к его близким в Баку. На период нашего достаточно длительного путешествия от Ленинграда до Баку, родители потеряли связь друг с другом – это было немудрено в первые месяцы войны. Папа очень волновался. Используя возможности, предоставляемые работой на гиганте оборонной индустрии, он, пытаясь разыскать нас, еще до нашего прибытия в Баку заслал своим близким несколько правительственных телеграмм, чем заставил их волноваться еще больше. Наконец папа узнал, где мы. За это время он получил жилплощадь на семью, и мы из Баку тронулись в Челябу, как называли тогда в просторечьи Челябинск.
Жилплощадь представляла собой комнату в два окна, общим метражом метров восемнадцать, на втором этаже. Благодаря высокому и длинному «телу» печки, стоящей при входе боком к двери метрах в полутора от стенки, комната имела нишу. Ее удалось удлинить, придвинув к задней части печки столовый буфет и протянув занавеску от буфета до окна. То есть внутри образовалась еще как бы небольшая узкая «комната», составлявшая около трети общей площади. В ней жили буся (бабушка Соня) и Люля (Люба – мамина сестра), приехавшие из Ленинграда прямо в Челябинск (Люля тоже работала в 8-ом ГПИ чертежницей – уже забытая сегодня профессия).
В нашей части комнаты было все необходимое: стол в центре, три стула вокруг него, кровать родителей у окна, маленький диванчик для меня у стены, противоположной окну. И еще бельевой комод, теперь чаще называемый полусервантом. Откуда все это взялось, не знаю – наверно из местных комиссионок. Закуток буси и Люли был обставлен беднее и теснее. Две кровати там поместиться не могли, и они спали на одной.
Дом, в котором мы жили, был двухэтажный, деревянный. Стоял он вдоль улицы, «спиной» к ней. Между домом и улицей по неясной причине расположился пустырь длиной метров в пятьдесят. Недалеко стоял большой пятиэтажный каменный дом темно серого цвета. Между этим домом и нашим также был пустырь, на котором сохранилось пару каких-то заброшенных сарайчиков-развалюх.
Судя по адресу, – ул. Ленина, 1-а, – наш дом был где-то в центре Челябинска, поскольку улица имени Вождя мирового пролетариата могла быть только одной из центральных. Однако литера «а» в номере дома, намекающая на какую-то дублирующую роль, а также его деревянность и двухэтажность, говорили о том, что долгая и счастливая жизнь для него не планировалась. По-видимому, он был бывшим бараком строителей, который не успели снести до войны. Это оказалось очень кстати в связи с эвакуацией в Челябинск большого числа предприятий из западной части страны.
Все жители дома были также сотрудники 8-ого ГПИ и члены их семей. Наши самые близкие друзья еще со времен работы родителей в Каменске – семья Кравец с дочками Инной, моей ровесницей, и Лилей, которая была лет на восемь старше нас с Инкой, – жили на первом этаже. А на нашем этаже самыми интересными для меня соседями были Хесины. Их взрослый сын Миша – болезненно худой, долговязый парень, мастерил из дерева чудесные модели самолетов, танков и другой военной техники. Каждая их деталь подвергалась обработке тончайшей наждачной шкуркой, и модельки выходили не просто похожими на оригиналы, но еще и весьма аккуратными и красивыми. Естественно, заполучить такую модель было моей самой заветной мечтой. Но видимо потому, что эта работа была чрезвычайно трудоемка и сложна, Миша очень дорожил готовыми моделями. Если он и демонстрировал их нам, мелкоте, по окончании изготовления, то только из своих рук. А потом они навсегда исчезали с глаз восхищенных зрителей где-то в глубине комнаты Хесиных, в его коллекции.
Однако и на «старуху бывает проруха», и иногда Мишу не удовлетворяла та или иная модель. Причем не удовлетворяла по параметрам, понятным только ему одному. Мне же такие модели казались не менее прекрасными, чем те, которые шли в Мишину коллекцию. И в этих случаях я, как ближайший сосед-мальчик, выражавший к тому же искреннее восхищение его творчеством, иногда получал в подарок такие «бракованные» модели. Это были самые счастливые дни в моей тамошней жизни. Я не расставался с таким подарком ни днем, ни ночью, ни за едой, ни сидя на горшке. Во время умывания я не клал модель рядом, а засовывал себе под рубашку – так было надежнее. Засыпая вечером, в постели, я сладострастно гладил пальцами ее безупречно гладкие поверхности.

