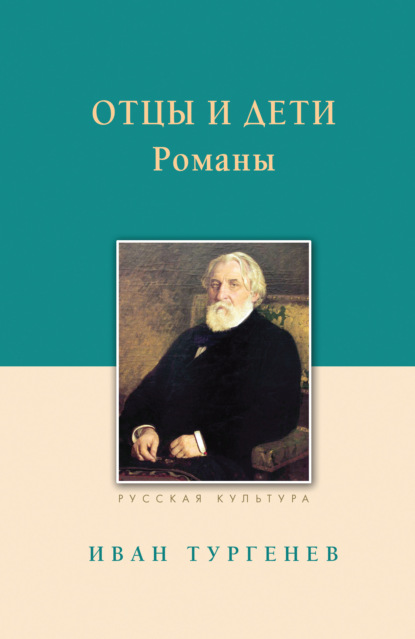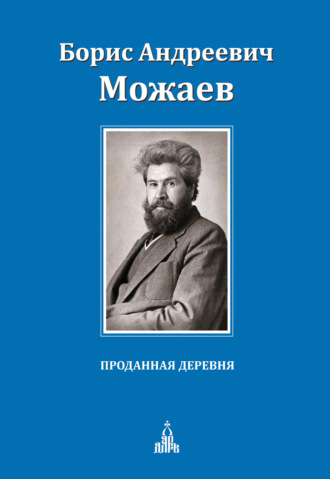
Полная версия
Проданная деревня (сборник)
– Хорошо, решим на общем собрании в другой раз.
– Нет, давай сейчас! – закричали из зала.
Тут поднялся Петя Долгий и сказал:
– За карнизы будем платить вдвое больше. Согласны?
– Согласны! – весь зал проголосовал.
Я опять говорю:
– Товарищи, у кого есть слово про Манолиса Глезоса?
– У меня имеется, – встал Якуша Воробьев. – Я, товарищи колхозники, предлагаю поддержать Манолиса Глезоса. Потому как я сам сидел – знаю, каково там. И ежели можно скостить ему срок, давайте попросим. Отчего ж не попросить?
Я что предлагаю – пусть мои два пуда пшеницы, которые я в прошлом году внес на помощь Вьетнаму, перешлют Манолису Глезосу. А то ведь их во Вьетнам так и не отправили. Чего они в колхозной кладовой валяются?
Тут встала Маришка Дранкина, наша кладовщица, и задала ему вопрос:
– Дак ты же их забрал в прошлом году!
– Это когда я их забирал? Когда?
– Вот тебе и раз! А кто их за помол Галактионову отдал? Кто?
– Я их отдавал?
– Но ты же велел отдать Галактионову!
– За помол?
– Да, за помол.
– Да как он помолол? Разве ж это помолол? Изжевал и плюнул. За такой помол с него еще взять надо, а не ему платить…
Все засмеялись. А я постучал о графин карандашом и строго сказал:
– Товарищи, мы должны говорить на политическую тему, насчет соблюдения прав и Конституции. Про закон! Вот об этом кто хочет – пожалуйста…
Встал Иван Дранкин, Маришкин тесть:
– Вы вот что скажите, закон у нас будет или нет?
– Какой закон?
– Известно какой… насчет скотины.
– Ну, при чем тут скотина?
– Как это при чем? Вчера корова Шабыкина зашла ко мне на двор и два центнера картошки съела.
– Не ври! Два центнера не съест – лопнет! – крикнул кто-то из зала.
– Дак в том-то и дело, что слопала. Бока во как разнесло. – Дранкин показал руками. – Прямо бочка.
– А что ты с ней исделал? – крикнул Шабыкин.
– Я взял да и пырнул ее в это самое обжорство… В бок то есть…
– Прошу записать это показание! – крикнул опять Шабыкин.
– А ты погоди! Отвечать за свою корову сам станешь, – обернулся к нему Дранкин, и потом – снова в президиум: – Дак что ж получилось? Шабыкин забрал мою корову и не отдает. Вот я и спрашиваю: закон у нас будет или нет?
Я обернулся к Пете Долгому, а он опять в бумаги прыскает. Молодой, опыта воспитательной работы у него нет. Ведет себя, как в школе, когда ученик чепуху несет. А тут еще встает кладовщица Маришка Дранкина и про свое:
– А с семенами когда решат? У нас они, что рожь, что пшеница, что ячмень, – все заодно числятся.
– Товарищи, это ж вопросы чисто внутреннего противоречия. А мы решаем в международном плане. Понимать же надо…
И тут, скажу вам, мое замечание так сильно подействовало, что даже все Дранкины замолчали. А я еще добил Маришку:
– Сядь! Не до семян. Давайте сначала с политикой разберемся. Выполним указание районного комитета.
Проголосовали мы. Приняли резолюцию в поддержку Манолиса Глезоса, а я про себя подумал и решил: «Непременно надо съездить до районного комитету и попросить, чтобы у нас прочли лекцию о разнице внутренних противоречий и международных. Или хотя бы мне поручили доклад сделать. Нельзя ослаблять воспитательную работу с массами».
Филипп Самоченков – первый брёховский председательОписание жителей начну с Филиппа Самоченкова, – во-первых, он живет с краю, во-вторых, он был первым председателем колхоза. И наружность у него занимательная: худой, погибистый, с наклоном вперед, вроде бы кто его в спину толкает. И ходит с наклоном, ногами семенит, словно гонится за кем. Окликнешь его – он ответит, но остановится не сразу, пробежит еще несколько шагов, потом уж свернет к тебе. Будто бы пружина в нем какая работает; заведет ее и мчится прямиком. Оттого он, видать, и худой всю жизнь. А должности занимал хорошие. Другой бы на его месте и живот нажил бы и загривок. Филипп же тощ, как уклейка по весне. Не знаю, на чем и штаны у него держатся. Всей и славы – один нос большой, хоть локтем меряй.
Поскольку Филипп личность историческая, не могу не сказать еще несколько слов про историю. Раньше вся история строилась на классовой борьбе. А таперика нам говорят: нет ни классов, ни врагов народа. Но, во-первых, куда же они все подевались? А во-вторых, если нет ни классов, ни врагов народа, то, значит, нет и борьбы. На чем же тогда строится история? Вот вам вопрос-закорюка. Ведь не станете же вы отрицать историю, товарищи примиренцы.
А между прочим, чего это я за других беспокоюсь. Мне историю есть на чем писать. Борьбы на моем веку было хоть отбавляй.
Начал я вот писать про Филиппа Самоченкова и задумался: почему меня народ любит, а его нет? И знаете что я вам отвечу: Филипп Самоченков имел в руководящей работе азарт, или, как говорят у нас в Брёхове, – зарасть; он все любил доводить до точки, а я всегда запятую ставил – и сам прохлаждался, и другим передохнуть давал. И пил он как бы с остервенением, будто не водку давил, а врага народа. Оттого и вся жизнь у него скособочилась. А мне много пить нельзя. Потому как выражение лица у меня меняется, перед подчиненными неудобно. Хотя при случае, конечно, я могу в этом деле потягаться и с самим Филиппом Самоченковым.
В лесном селе Корабишине начали раскулачивать на год раньше, то есть в одна тысяча девятьсот двадцать восьмом году. Скорее всего за укрывательство хлеба, излишков то есть, всех бывших кулаков выслали на лесозаготовки. Дак ведь вот какой народ, – они и там за два-три года разбогатели. Их, значит, опролетаризировали, сняли с них запрет. Они и зажили опять по-богатому. Пришлось их вторично искоренять. Осталось от них в двадцать восьмом году много скота. Время было летнее. Куда его девать? Вот и решили создать в Корабишине коммуну, и весь кулацкий скот ей передали. А председателем послали туда Филиппа Самоченкова.
Тут и развернулся наш Филипп. Первым делом, говорит, надо накормить коммунаров. И лозунг выкинул: «Ешь от пуза». Потому как сытый человек команду лучше слушает. И в работе он усерднее. А от голодного одна злоба да грызня. Ну, ладно. Стали есть коммунары вволю и на работу весело пошли – столовую построили, силосную башню. Но на беду Самоченкова от кулаков осталось много ульев. И не успел он толком оглядеться, как мед растащили на медовуху да самогон. И такая пьянь пошла, такое воровство, что просто невозможно. Тащили улья, поросят, овец, свиней и даже до коров дошли. Всю зиму охотился Самоченков на воров. Однажды напал на компанию – сидят ночью на кулацкой заимке, пьют и песни играют. Он было к ним, – один из тех вылетел на коне из заплота да на Филиппа. «Стопчу, паразит!» Филипп и ахнул из ружья. Тот упал. Раненый… Пасечник оказался.
И перекинули Филиппа обратно в Брёхово. Тут и у нас назревали события – кого надо раскулачить, кого высылать. Одним словом, черновая работа по строительству фундамента нового общества. Самоченков хорошо старался – задание сверху выполнял до конца. Даже псаломщика раскулачил. Отобрали мы у того служителя культа, как я уже писал, самовар без дудки, а у волгарей-отходников – по мешку вяленой воблы и по ведру селедки.
Он же и церковь нашу ликвидировал. Создали колхоз, – хватились свинарник строить – кирпича нет. Тут Самоченков и говорит: «А церковь на что стоит? Давайте ее ликвидируем, а из кирпича свинарник построим». Дак его поп на церковной площади проклял. «Кто, – говорит, – из церкви свинарник сделает, того бог в свинью превратит». Попа самого ликвидировали, а Самоченкова судили за перегиб. Вызвали на суд человек тридцать – все свидетели. Тут и псаломщик был, и волгари-отходники, и Васютка Мокрая… Тот кричит – лошадь отобрали, тот – корову, этот – заем силком навязали. Заклевали Филиппа. Судья спрашивает его:
– С какой целью ты это делал, Филипп Самоченков?
– Гражданин судья, – отвечает Филипп, – хотите верьте, хотите нет, но делал я это без цели. Одно мое усердие, и больше ничего…
Дали ему два года по 109 статье за злоупотребления и еще два года по статье 110 за дискредитацию советской власти и отправили в Святоглебский монастырь, где сидели кулаки. Они его на первой же прогулке до полусмерти избили. Он в милицию: «Что вы делаете? Они же убьют меня до смерти…» И взяли Филиппа конюхом в милицию, а дочь его, глухая Полька, ходила к нему овес воровать. За это воровство его на лесозаготовки отправили. Но в тридцать пятом году товарищ Сталин подписал закон: которые сидят по статьям 109 и 110 – освободить.
Вернулся Филипп, реабилитировали его, а работы руководящей не дают. Он два года на салотопке отработал с Андрюшей Гвоздиковым, с тем самым, который посреди дороги уснул на Ильин день, отчего и был задавлен. И тут на счастье Филиппа в Корабишине выявился заговор – многих врагов народа посадили, в том числе и председателя колхоза. Кого взамен послать? Чистого пролетария в районе не было. Кто из беднейшего слоя крестьян отвечал в тот исторический момент всем требованиям текущей политики? Тот, кто проявил свое усердие по искоренению. Вспомнили опять про Филиппа Самоченкова. Он в ту пору жил на краю Брёхова в своей двухоконной избенке и, кроме Польки глухой да пестрого кобелька Марсика, так ничего и не нажил. И послали его обратно в Корабишино, председателем колхоза…
Как он там руководил, я не знаю. Только после войны его сняли за полный развал и из партии исключили. Вернулся он в Брёхово, отодрал забитые окна, вселил в свою избенку Польку глухую, а сам подался в касимовские каменоломни, подальше от стыда и с глаз долой…
Но камень долбить – не в салотопке работать. Надоело ему с непривычки. Зашел в исполком разведать насчет низовой руководящей. «Виноват, – говорит, – во всем виноват я сам». – «В чем?» – «Да в том, что из партии меня исключили, в Корабишине». – «А их решение не утвердили». – «Что ж мне теперь делать?» – «Поезжай в Брёхово заместителем председателя колхоза». Приехал. А председатель взял да помер и оставил весь колхоз опять на Филиппа Самоченкова. Время было такое, что с колхоза все требовалось: и зерно, и лес, и тягло. Только поспевай поставлять. По части поставок Филипп Самоченков даже в передовые вышел. Выйти-то вышел, а удержаться не смог. Резервы иссякли… Тут его опять начали молотить: склоняли, как вредителя сняли, судить хотели…
Прислали меня на его место. Приехал со мной секретарь райкома. Уж он его ругал, ругал – до самого утра: «Ну, что с тобой делать?» – «Ваше слово – закон», – отвечает Филипп. «Ладно, отдам тебя в райисполком. Устраивайся как хочешь». – «Нет уж, – отвечает Самоченков, – никуда я больше не пойду. А то меня райисполком в милицию передаст. Однова я уж там побывал…»
Так и остался в Брёхове, конюхом при школе. Занял я его место председателя и думаю: «Дай-ка посмотрю его дела – уясню, в чем тут собака зарыта». У меня правило такое – если хочешь разобраться в человеке, посмотри его анкету, ибо сказано: анкета – зеркало души нашей. А ежели еще и протоколы от тебя остались, весь твой опыт перейдет в потомство, в историю то есть. Таперика говорят: слово не воробей – вылетит, не поймаешь. А зачем его ловить?
Ты его лучше внеси в протокол, да в дело подшей, да в сейф упрячь, и никуда оно не денется.
Стал я читать протоколы Самоченкова, папку заявлений, резолюций его – и все сразу понял: Филипп не хозяйственник, он был руководителем чистой воды. То есть в любом деле он прежде всего держал руководящую линию. Идею! Держался, как говорится, на одном энтузиазме.
К примеру, приведу один протокол заседания колхозного правления.
Повестка дня: Выполнение плана уборочной кампании.
По первому вопросу выступили:
тов. Глухов Н. (бригадир первой бригады), который доложил – ход сеноуборки идет очень медленно. Во-первых, колхозники разъехались по домам; во-вторых, сенокосилки поломались. И нет запчастей. Хлеб жнут и не молотят, потому что – сырой.
тов. Свиненков (бригадир второй бригады) сказал – сено сейчас не косим, потому что поломался трактор и запчастей нет. Ржи сжали очень мало, потому как сорная – комбайн забивает.
тов. Дементьев Н. (бригадир третьей бригады): сеноуборка идет очень медленно, потому что плохой выход на работу. Окромя того еще люди не идут в подчинение. Хлеб не молотим – молотилка поломалась и потому что сырой. А на тракторе пальцы посыпались и нет запасных.
Выступили:
тов. Самоченков (председатель). Товарищи, разве колхозники не знают, что мы должны получить хлеб на трудодни? А почему же хлеб не молотим? Это же наш хлеб. Неужели еще не дошло до сознания колхозников, что мы должны добиться культурной и зажиточной жизни? Взять, товарищи, такой вопрос… Есть колхозники, которые не имеют ни одного грамма хлеба и сидят, не работают. Эти люди ничего не понимают и стоят только за свою собственность, а за общественность не борются. Товарищи, таких людей надо критиковать и лишать их сена и тягла. А ведь я, товарищи, всем бригадирам задание выдал. И что же?
Возьмем бригадира Дементьева, – не жнет, не косит, а лошадь в разъезде – все на пасеке, где заведена агульная пьянка. А Дементьев вместо того, чтобы накосить и заскирдовать, дает дутые сводки, чем самым обманывает общественное животноводство колхоза и в целом государство. И хуже того – заскирдованный хлеб не проверяет, может, его весь скоту стравили.
Что же имеется на сегодняшний день? План сеноуборки провалили и по хлебу тоже. А причина провала зависит только от руководителей. Где трудовая дисциплина в бригаде Дементьева? Нет ее. Взять также руководителей Глухова и Свиненкова. Они только подставляют в руководстве правлению ногу и занимаются пьянкой. Я считаю, что правление колхоза сегодня вынесет конкретные решения таким безответственным лицам.
Постановили:
Бригадиров тт. Глухова, Свиненкова и Дементьева предупредить».
Как видим из этого протокола, Филипп не разбирал, почему хлеб сырой или там комбайн поломан? Весь упор он делал на сознательность, на горячее руководящее слово. Хорошо умел говорить Самоченков, ничего не скажешь. Но гибкости у него не хватало. Посудите сами. Вот заявление от Сысоева Петра Семеновича:
«Прошу рассмотреть мое заявление в том, что я по болезни заколол свою корову. Выдайте мне стельную телку за мясо…»
Резолюция Самоченкова: «Просьбу отказать».
«Прошу разобрать мое заявление в том, что мой муж взят в ФЗО, а я осталась ни при чем. Я хочу ехать к нему, и он хочет. Прошу отпустить из колхоза. К сему Сморчкова Клавдия».
«Просьбу отказать».
«У меня есть три несделанных овчины. Прошу исделать их. Хамов».
«Дать взамен две овчины из брака. Самоченков».
«Прошу освободить меня от работы счетоводом ввиду моей малограмотности и моего здоровья, а именно – плохого зрения и внутренней болезни. Н. Сморчков».
«Просьбу отказать. Самоченков».
«Прошу правление колхоза “Восход” разобрать мое заявление, отпустить меня из колхоза, как зашел я добровольно и выхожу добровольно. Я теперь живу в деревне Сшиби-Колпачек и имею семейное положение. К сему Дементьев В.»
«Просьбу отказать».
Насчет резолюции вы можете подумать, будто бы Филипп Самоченков человек бесчувственный и якобы ему никого не жаль. Это неправильно. Секрет в том, что он выбрал просто линию такую, направление то есть – держать на отказ, и больше ничего. А может, ему установка такая была спущена и он жал до нового поворота. В том, что Филипп Самоченков человек был не злой, можете убедиться из книги колхозных актов. Приведу, к примеру, несколько актов сряду, чтобы не подумали – нарочно подбирал.
«Акт составлен ниже в следующем, в том, что сего числа Мелантьев Савелий Иванович повез допризывников. Вместо того чтобы везти своих людей, он посадил чужих, а своих двух – Дементьева А. и Дементьева В. оставил дома, из-за которых пришлось гнать лошадь. В чем и составлен настоящий акт».
«Мелантьева предупредить. Самоченков».
«Акт составлен ниже в следующем, в том, что сего числа, то есть 28/11-49 г., транспортеры Черепенников Иван и Глухов Матвей, не спрашиваясь никого, пришли ночью на конный двор, запрягли лошадей и уехали себе за дровами. А корма коровам подвозить некому. Весь день коровы мычали…»
«Транспортеров предупредить. Самоченков».
Как видите, и в этих резолюциях видна линия. Из чего мы можем смело заключить – Филипп Самоченков любил направление и никогда его не менял. Но эта ошибка исходит отнюдь не из душевных качеств, потому что душевные качества подвержены всяческим колебаниям и даже изменениям. А тут линия, направление то есть, и никаких отклонений. Стало быть, у него был такой руководящий постанов. А перед руководящим постановом и наука и медицина бессильны. Потому что каким он даден человеку, таким и останется до гроба.
Как-то разговорились мы с Филиппом после уроков (он навоз вывозил со школьного двора), я его и спрашиваю:
– Ну, ты уяснил или нет, почему так медленно вел колхоз к изобилию? А он мне:
– Дак ведь по неизведанному пути шел…
И оба мы глубоко задумались.
Сколько может выпить Парамон?Все ж таки тянуть одну историю и читать ее подряд – скучно. История, она история и есть… дело прошлое, как говорится. Поэтому ее надо с современностью увязывать. И смотреть на нее с высоты нынешнего пройденного пути, как с забора, можно сказать.
Ведь в чем ее интерес? В том, что мы идем вперед, а она как бы отдаляется. Значит, изображая прошлое, подчеркни современные достижения. И более того, даже недостатки наши должны подчеркивать исторический прогресс.
Вот взять хоть пьянку. Раньше кто пил у нас в Брёхове? Мельник, потому как за помол брал батман – мукой и деньгами. А кто вне очереди хотел помолоть – поллитру ставил. Пил еще плотник Юрусов, да сапожник Митя – немой. Энти каждый день дули. Остальные выпивали только по праздникам. А таперика что? Таперика пьют, можно сказать, поголовно все. Если посмотреть на это как на мораль, то можно и осудить. А с исторической стороны ежели подойти? Это же достижение. Потому что пьют, когда есть что пить. Небось в войну не пили. И когда страну поднимали, тоже не до питья было. Не токмо что пить, на поглядку зерна-то не оставляли. Все под метелочку забирали из колхоза. Значит, пьянка – это верный признак исторического прогресса, то есть улучшения материальных условий. К примеру, приведу того же Филиппа Самоченкова. Когда он хорошо жил, тогда и пил. А таперика в рот не берет. Но однако ж тут есть и загадка человеческого характера: почему во все времена пил Парамон Дранкин? И сколько вообще он может выпить? На этот вопрос никто не ответит, даже сам Парамон.
Однажды пригласил я его к себе домой свинью зарезать. Не успели мы как следует освежевать ее, как хозяйка моя, Маруська, несет уж поллитровку.
Увидел этот снаряд Парамон и говорит, как бы с досадой:
– А-а! Ее не перепьешь…
Он закурил и размечтался.
– Мне, – говорит, – Петр Афанасиевич, есть что вспомнить: попил я вволю. И только один вопрос меня беспокоит: сколько можно выпить ее с одного захода?
– Для такого испытания случай подходящий нужен, – отвечаю. – Это все равно как петь со сцены; одно дело, когда народу полный зал, а другое – когда скамьи голые стоят. Так и тут, ежели на спор специально, много не выпьешь. А и выпьешь – впрок не пойдет. Вон Мишка Кабан выпил десять тонких стаканов, на одиннадцатом упал и хрипом изошел. А на свадьбе я, бывало, и по двенадцать стаканов выпивал. Да еще пьешь! Может, и больше выпьешь, но всегда под конец водки не хватает. Так что всему делу голова – случай.
– Да в том-то и досада, что был со мной такой случай однова. Был, да я им не попользовался. До сих пор жалею.
И Парамон рассказал мне про этот печальный случай.
– Работали мы с Сенькой Курманом заготовителями от сельпа. Дело было под праздник, накануне зимней Миколы. Снег повалил – ну ни зги не видать. А мы как раз барана купили, на заготовительный пункт везти. Но как его туда переправишь? Дорогу перемело. На лошади поедешь – с пути собьешься, замерзнешь. Это теперь машины есть, а раньше? Сидим мы под вечер в сторожке – деревянной будке, возле сельповского магазина. И баран с нами. Сидим и думаем… «Семен, – говорю. – Ведь он у нас подохнет. Или хуже того – весом скинет. Убытки понесем. Куда в такую пору за кормом итить? Давай его зарежем?» – «Давай, сейчас и до дома не дойдешь. Вон какая метет».
Пока я растапливал печку, пока за водой на реку сбегал, Семен успел разделать его.
«Гусек с потрохами бабам отдадим, – говорит он, – задок сварим, сами съедим, а передок для отчетности оставим».
Вот сидим, варим… А снег все идет и идет. Эх, теперь хотя бы поллитровку достать, думаем. Такая у нас закуска варится…
Но денег нет, да и Полька Луговая, наш продавец, в район уехала. Сидим, сочиняем – как бы водки достать. Семен говорит, если денег нет – бей на уважение. Потому как уважение человеку сделать – ничего не стоит, зато отыгрыш большой: и в долг могут поверить, и так, задарма дадут. Вот я, говорит, «Георгия» еще в тую войну получил. А сказать из-за чего? По совести признаться, исключительно за подхалимаж.
Сидим мы вот эдак, балясы точим. И вдруг как засветит нам сквозь ставни. И машина вроде бы послышалась. Выбегаем – так и есть. Машина в самые ворота уперлась. Кузов гружен выше кабины, и одни только ящики, а сквозь щели между досками горлышки бутылочные видны. Брезент ветром сорвало и треплет, вроде портянки на веревке.
«Что за село?» – спрашивает шофер из кабины.
А я, веришь или нет, смотрю на эти ящики с вином и вроде бы замлел от переживания.
Но Сенька мой бесом вертится возле шофера: «Да не все ли тебе равно, мил человек, какое село. Дело теперь не в селе, а в тепле. Вылезай-ка, обогрейся. У нас и печурка топится, и казан кипит».
Вошли мы в сторожку. У шофера так ноздри и заиграли: «А вроде бы чем-то пахнет у вас?»
«Едой да выпивкой, – подмигивал Семен. – Откуда ты едешь?»
«Из Пугасова в Ермишь».
«А угодил в Брёхово».
«Скажи ты на милость! Ведь никуда не сворачивал. И как я здесь очутился?»
«Черти завлекли. Мы то есть», – сказал Семен. Снял он казан с бараниной да крышечкой эдак поигрывает, чтобы дух на шофера шел.
«Садись, – говорим, – с нами повечеряешь».
Тот не выдержал: «Обождите, ребята, я сейчас обернусь».
И несет поллитровку. Ну как тут верующим не сделаешься? Ведь бывает же – ты не успел как следует помечтать о ней, а она сама к тебе в руки идет. Вы скажете, колдовство? Нет, Сенькина обходительность, подхалимаж то есть, и больше ничего.
Разлили мы водку на три части. Шофер говорит: «Мне пить нельзя. Ехать надо в Ермишь».
«Да куда ты сейчас поедешь? Разве от такого добра едут», – сказал Сенька, вываливая мясо из казана.
У нашего шофера аж дух захватило. Он говорит: «По такой закуске стыдно давить одну бутылку на троих».
Пошел он, принес еще бутылочку. Мы и ту распечатали и заместо супа выпили, а мясом заедали.
«Где две, там и третья», – сказал шофер и еще бутылочку принес.
«Что ж, – говорю, – Семен, у нас получается? Водки много, а закуски нет. Давай заваривать и другую часть барана».
Сбегал я опять на реку, воды принес… Наварили мяса. Разлили и эту бутылочку, выпили.
«Что ж это у нас получается? – говорит Семен. – Водка кончилась, а закуски много».
Принес шофер еще бутылочку, распили.
«Ну, теперь, – говорит, – я поеду, ребята».
Встал он от казана и на своих ногах дошел до порога. Значит, доедет! Правда, в дверях его качнуло. Он притолоку на плече вынес и упал в снег.
«Семен, – говорю, – давай супом отливать его».
Принес Сенька кружку супу, мы ее в рот шоферу влили. Отошел. А Семен ему в руки теплый сверток мяса сует.
«На, – говорит, – в дороге собьешься, все погреешься от нечего делать».
«Ребята, – говорит шофер, – век вашей доброты не забуду. Возьмите на память ящик водки».
А я себе думаю: ну, мы возьмем, а если с тобой что случится? Люди видели, как ты заезжал. Значит, украли, скажут. А там и нас потащат. Нет, так не пойдет.
«Легко сказать – возьми, – отвечаю. – А с какой стати эдак сразу ящик водки?»
«А с той самой, что она у меня лишняя. Мне ящик на бой положено. А боя нет».
«На бой оно, конечно, положено, – думаю себе. – Но ты сел да уехал. А ежели, в случае чего, ко мне придут…»
Оно и то беда – посоветоваться не с кем. Сенька уже в сугроб запахал носом. Какой он советчик? И взяло верх надо мной сумление. Отказался я от ящика. Но два поллитра в карман сунул.
Утянул я воз брезентом, затолкал шофера в кабину. Лег он на баранку и поехал.
Берусь за Семена; трясу, поднимаю, а он как ватный, отпущу – падает.
«Семен, – говорю, – пошли опохмеляться».
Тут он один глаз открыл:
«А не врешь? Дай пощупать?!»
Сунул я ему бутылку в руку, он ее пощупал и, веришь или нет, – сам встал! Распили мы с ним эти бутылки и тут же уснули.
И вот с той поры где бы я ни ходил, какую бы радость ни переживал, а палец у меня нет-нет да и дергает: что бы тогда было, кабы мы с Семеном энтот ящик опрокинули? И не мне бы обижаться на свою судьбу. Ведь попил… Однова в столовой четыре бутылки красного опрокинул – и чувствую: что-то ноги отяжелели.