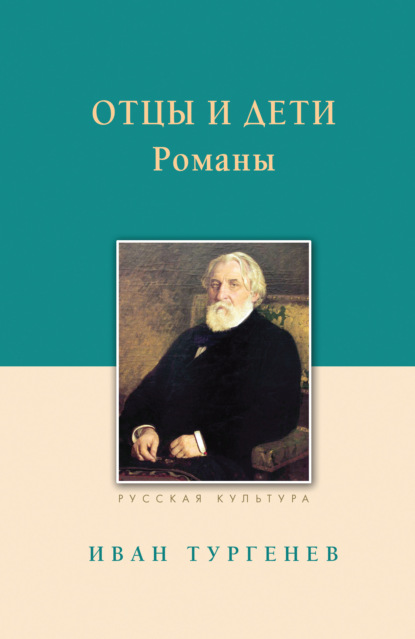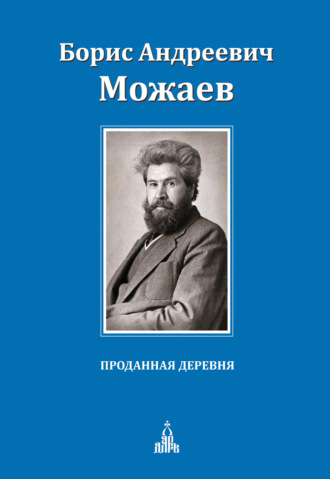
Полная версия
Проданная деревня (сборник)
– Как же это вы пишете книжки про деревню, а сами не знаете, что такое дерево?
– Ну, – говорит, – деревья бывают разные: и дуб, и ясень, и осина… Всех не упомнишь.
– То дерево на корню, – отвечаю, – а это в деле. Разница! Без этого дерева сена не привезешь. Оно у каждого народа по-своему называется. У нас одно дерево, а вон татары называют его бастрык. Татарин и то знает, а вы не знаете. А еще книжки про мужиков пишете.
Может быть, я чего и не учту по художественному уровню, пусть уж критики на меня не обижаются. Но зато я не перепутаю дерева на корню с деревом в деле. А историй про село Брёхово я знаю много. Начну-ка я их записывать. Как ночь, так история. Ну, точен-в-точен как в книжке про тысячу и одну сказку. Только я сам себе и царевна и персидский шах.
Почему наше село называется Брёхово?История для села – это одно и то же, что автобиография для человека. Как человеку нужна автобиография для службы, так и селу для колхозного строительства, для районных справок, донесений, так и далее нужна история. Но сказать по правде, настоящая история села Брёхова началась только при советской власти. А до революции какая была история? Одни пьянки по религиозным праздникам, да по будничным дням работа. И потом другое надо учесть – ни сельсовета, ни колхоза не было. Какая же могла быть общая история у села? Никакой общей истории быть не могло, потому что село было разбито на единоличные хозяйства. А если писать про отдельные хозяйства, то получится несколько отдельных историй, ну вроде рассказок. И больше ничего – никакой политики. А настоящая история всегда с политикой связана. Это надо уяснить каждому со школьной скамьи.
Таперика надо написать – почему наше село называется Брёхово? Если вы бывали в наших местах, то заметили, наверное, хоть из Прудков, хоть из Корабишина, хоть из Самодуровки Брёховский бугор. Старики рассказывают, что раньше, может, лет двести, а может, и триста тому назад, съезжались сюда баре на охоту. На самом угоре стояла псарня помещика Брюхатова и псари его жили. Вот от этих псарей и пошло наше село. А Филипп Самоченков рассказывал мне, якобы в жены им привозили дворовых девок из Самодуровки; которую, значит, обрюхатит барин или кто из его помощников, присылают в Брёхово. Но наперед заставят ее липу посадить, а потом уж за псаря замуж выдают. Так и выросла под Брёховом целая липовая роща. И название она имеет – Приблудная.
Село наше большое, торговое. Раньше к нам на базар приезжали из райцентра Тиханова и даже из города Пугасова. И все улицы нашего села по-базарному назывались: Сенная, Конная, Горшечная, так и далее. А в годы нэпа было два трактира, три чайных, две булочных, одна колбасная да двенадцать лавок. Все это исходило от нашего бескультурья. Таперика от этого наследия прошлого не осталось и следа. Есть у нас клуб, магазин, школа-десятилетка. А все улицы называются по-современному: Пролетарская, Максима Горького, имени Луначарского, – последняя сокращенно называется «Имначас». Но это для неофициальных разговоров.
Есть у нас еще пережиток от старого прошлого – село с селом ругается. Например, корабишинских мы зовем талагаями, а они нас – каменными сдобами. Ругательское слово «талагай» ничего не означает по-русски. Узнал я от заезжего писателя (который не мог отличить дерево на корню от дерева в деле), якобы талагай – слово латышское, вроде бы по-нашему означает странник, далеко зашедший. Пожалуй, в этом есть правда. Почему? А потому что в Корабишине, по старому говоря, жила литва некрещеная. Будто их какой-то князь в карты проиграл и перевезли их к нам в лес. Доказательством нерусского происхождения служит еще и то, что у корабишинских избы строились без сеней – прямо к избе шел впритык лапас, то есть крыша двора. Они даже квашню с квасом держали на дворе. Еще мы их дразнили за это:
– Акулька, что там булькает?
– Сивый мерин в квашню с… (многоточие означает непечатное слово).
А прудковских, например, прозывали козозвонами. У энтих коза в набат ударила…
Паслась она в церковной ограде. А веревка с пожарного колокола свисала очень низко и привязывалась к березе. Кто увидит пожар – подходи и дергай за веревку, звони – собирай народ. Ну, коза рогом и зацепилась за веревку… Дернула головой – «Дон»! Она в сторону – опять: «Дон!» Она с перепугу метаться, – то туда, то сюда… а на колокольне: «Дон! Дон! Дон!» Набат! Все село и сбежалось на потеху… С тех пор их и прозвали козозвонами. Оно прозвище-то вроде бы и случайное, а причинность все ж таки имеет. Народ прудковский непутевый, пустозвонный…
А почему нас прозвали «каменными сдобами»? Раньше у нас на базаре тихановские торговали черепенниками, а наши, брёховские, пышками да самодельными пряниками. Вот они-то и назывались сдобами.
– Черепенники с пылу, с жару! Ай, черепенники! – кричали тихановские.
А наши, брёховские, им вперебой:
– Сдобы, сдобы! Купи сдобы!..
Какой-то озорник купил одну сдобу, будто зубами ее не раскусил. Зашел он сзади да как шарахнет по спине торговку этой сдобой. Она еле дух перевела:
– Ой! Явол! Кой-то мне по спине каменюгой заехал. Чуть ребро не перешиб.
– Это не каменюгой, а твоей сдобой…
С тех пор и прозвали нас «каменными сдобами».
Но это все приметы старого прошлого. А таперика мы имеем самодеятельный хор и частушки собственного производства. На районном смотре так и объявляют:
– Выступает Брёховский хор со своими частушками. Музыка Глуховой, слова Хамова (это наши сочинители).
Колхоз у нас хороший. Петр Ермолаевич Звонарев, последний председатель, авторитетом пользуется, – народный депутат, Герой Социалистического Труда. А первый председатель нашего колхоза Филипп Самоченков работает таперика у меня, то есть конюхом при школе. Я тоже был в свое время председателем, но об этом расскажу потом.
А народ у нас трудовой, артельный. Работает дружно. Но уж коли кто сопрет бочку или, допустим, фару отломает на комбайне из озорства – убей не допытаешься. Корабишинские, те наоборот – один цыпленка украдет на курятнике, а пятеро донесут на него. И, между прочим, воруют у них поболе нашего. А у нас с доносчиками строго поступают, – на сенокосе надевают котел на голову и бьют в него палками, пока тот не оглохнет. Мы, говорят, народ музыкальный. Пусть запомнит нашу музыку. Озорники! Недаром у нас каждый на селе прозвище имеет. А Иван Косой даже стих про это написал. Еще в двадцать девятом году на сходе в бывшем трактире огласил:
– А таперика я вам, – говорит, – проповедь прочту.
И пошел… подряд по всему селу:
– Клеща Дранкин, Пихтиряй Назаркин, Кабан Луговой, Карась Большой, Михаил Тырчек, Тимофей Сверчек, Алексей Кривой и Андрей Простой… так и далее.
«Простой» – это не фамилия, а прозвище. Так зовут у нас всех дурачков. Кстати, Андрюша Простой, по фамилии Гвоздиков, недавно погиб при следующих обстоятельствах: шел он из Мыса Доброй Надежды (это название одного из наших сел), крепко набрамшись. Там был козырный праздник Ильин день, по-старому Престол. Андрюша знал наперечет, в каком селе какой престольный праздник. И уж обязательно посетит.
Значит, посетил он… напился. Надавали ему кусков: одна сума у него спереди висит, это для кусков пирога, другая – сзади, та для хлеба. Идет он, бывало, с праздника враскачку, – какая сума перетянет, туда и упадет. Или на спину опрокинется, или носом запашет. Тут же и заснет, прямо на дороге. Шел он, значит, на Ильин день и заснул на дороге.
А в этот самый час, под вечер, ехал Васька Бондарь в Свистуново на тракторе за водкой. У них, в Корабишине, магазин не работал. А был он тоже выпимши. И черт его понес на обочину…
На суде он говорил: по траве вроде бы помягче ехать.
– Едем мы, – говорит, – с Иваном выпимши. Вдруг – стук! Тряхнуло вроде нас… Что такое? Иль на бревно наехали? Посмотрели – а это, оказывается, Андрюша… Ну и переехали его.
Извиняюсь, я отошел в сторону. Значит, я сказал, что каждый у нас на селе прозвище имеет. И все с умыслом. Дранкиным дали, к примеру, прозвище – «клещи». За жадность и скупердяйство. Мишка Тырчек и Тимошка Сверчек – эти еще по комсомолии отличились. Моими секретарями были. Бывало, вызовет нас Филипп Самоченков и скажет: «А ну, комса, давай на боевое задание…» Мы и даем.
Да, пишу я эти строки, а сам думаю: приказал бы таперика Самоченков Тырчку да Сверчку. Тырчек целой областью заворачивает, а Сверчек по торговле большой начальник. За границей бывает и по месяцу там живет и более. Вот тебе и комса! Комса – по-старому значит – комсомольцы. И вот что поразительно – способности к загранице у Тимофея выявились еще в те годы. Все он книжки иностранные читал и песни пел заграничные: «Плыви, моя гондола, озарена луной. Раздайся бар каролы над сонною волной…»
Гондола – это лодка по-итальянски, а «бар каролы» – это по-русски значит – «звон гитары раздавайся». Я думаю: таперика вы и сами догадались – карола это есть гитара.
Между прочим, мое прозвище на селе было Дюдюн.
Про самого себяСел я про самого себя сочинять и задумался… До чего же моя жизнь удивительная! Вот я все над своей Маруськой смеюсь – темнота! А сам-то я каким был? Таперика я – персональный пенсионер, иногда парторга замещаю. Людей уму-разуму учу, сочиняю. А раньше? Верите или нет – до двадцати лет ни разу в городе не был. Железной дороги не видал. Да что город? Часов настоящих и то не видел. Ну смотрел на ходики в сельсовете. Дак там все просто: время подойдет – выглянет кукушка и прокукует, сколько часов. Только считай. А вот настоящих часов, с римскими цифрами не видел. И читать по ним не умел.
Иным хоть на раскулачивании повезло – и на часы насмотрелись, и кольцы золотые видели. А нам кулаки захудалые попались: псаломщик, да Васютка Мокрая, родственница барина Корнеева, да мельник Галактионов. У псаломщика в избе хоть шаром покати – один самовар отобрали. Пока несли, – у него дудка отвалилась. У Васютки Мокрой отобрали три корзины рюмок разноцветных да тарелок. А часы, говорит, в починку свезла, в Пугасово. У мельника не токмо что часов, порток крепких не было. Скотины полон двор да одиннадцать человек детворы. Они стаканы и те пококали – одни кружки жестяные…
Так и не увидел я часов до самой армии. Из-за этого со мной очень забавная история приключилась. Я вам расскажу ее, а вы сами судите – кем я был и кем стал. Но для соблюдения формы сперва напишу свою автобиографию, то есть кто такие мать и отец.
Зовут меня Петром Афанасиевичем Булкиным. В моей служебной автобиографии записано, что я сын пострадавшего, убитого контрреволюционерами в 1919 году.
Сказать по правде, Булкин Афанасий не отец мне, а отчим. И никакой он не пострадавший. Нанялись они с приятелем гнать скот из Касимова в Пугасово. В дороге бутылью череп сшибли купцу. Взяли деньги, наган. Но их разоблачили и отправили в ссылку на бессрочную каторгу. Мать вышла замуж за другого и против закона прижила с ним меня и брата моего Леванида. Таперика, моего отца взяли на германскую войну, и там он пропал без вести. А после революции возвратился Булкин Афанасий, забрал жену с обоими детьми. Озоровать начал – пил да насильничал. Его и кокнули… Время было неспокойное, поди разберись – кто?
Остались мы одни с матерью, – хата в три окна да лошаденка. Я в работники пошел, пас коней, а брат мой Леванид – баранов.
Писать про эту жизнь неинтересно: материал бедный. Потом вступил в комсомол, стал активность проявлять: неграмотность ликвидировал свою и чужую… И вот, за эту активность, взяли меня в Красную Армию. А председатель Брёховского колхоза Филипп Самоченков выдал мне по такому случаю премию: десять холстин, пять полотенцев с петухами да три разноцветных поневы.
Ну вот, гонят нас в Пугасово, на станцию. А я все думаю: «Что же есть такое железная дорога? Это, должно быть, жестью все устла но. Едешь по ней, а грязи нет». Пригнали нас на станцию – нет никакой жести. Смотрю я – что-то ползет к нам. Ящики не ящики, и на телегу не похожи. Но на колесах… Останавливается перед нами – двери настежь.
– Погружайся! – кричат.
А это, оказывается, товарняк. Залезли мы – и опять вроде бы поезда нет никакого. А что-то на избу похоже: полати, скамейки. Мы залезли на полати, расположились… и уснули.
Просыпаемся ночью. Что такое? Перекидывает нас с боку на бок, как на ухабах. Все скрипит, грохочет… Кто-то как заорет:
– Едем! Едем!!!
Мы к окну. Поглядели – дорога узкая, а рядом глубокий ров. И всем боязно стало: а ну-ка да опрокинет?
Но ничего… Доехали благополучно. Куда-то за Киев увезли нас. На киевском вокзале мне еще показали на часы:
– Смотри, Петро, какие часы! Стрелка за штаны заденет – повиснешь.
Я смотрел, смотрел и ничего не понял. Какие-то палки по кругу раскиданы, да две больших стрелки посредине.
Ну, ладно. Приняли меня в кавалерийскую школу. Получил коня… И вот надо же такому случиться – экземой заболел, и место самое неподходящее, в промежности, извиняюсь.
Пришел я в лазарет, а лепком смотрит эдак подозрительно и спрашивает:
– Ты что, за кобылой, что ли, ухаживаешь?
– Нет, – отвечаю, – у меня конь.
– Ко-онь! – передразнил он меня. – Ах ты поросенок паршивый.
Сел за стол, записал чего-то в книгу и говорит мне:
– Тебе, голубчик, в госпиталь надо ехать, в Днепропетровск. Приедешь на вокзал, там спросишь трамвай номер четыре. Он тебя довезет прямо до госпиталя. Вот тебе пятачок на трамвай.
Сижу я на политзанятиях и думаю: «Ну, как я поеду? А вдруг меня там посадят, как заразного?..»
Название болезни я не мог никак запомнить. «Ежели меня так далеко отсылают, – думаю, – значит, зараза опасная. У нас в Брёхове однажды застрелили лошадь с сибирской язвой и закопали за селом. А что, ежели у меня такая страшная болезнь?..»
Вдруг приходит в класс посыльный и кричит:
– Булкин!
– Ен самый…
– Надо отвечать – «Я»! В штаб вызывают.
И повел меня впереди, как под конвоем. Что делать? Надо идти. Иду и думаю: «За что?»
Входим в какой-то кирпичный дом. Он открывает дверь и в кабинет меня швырь. Осмотрелся я – нет ни решеток, ни охраны с винтовками. Сидит за столом молоденький красноармеец и спрашивает, эдак улыбаясь:
– Вам чего, товарищ красноармеец?
– Не знаю. Меня привели сюда.
– Как ваша фамилия?
– Булкин.
– А-а! Вот ваши документы. Получайте и езжайте в Днепропетровск.
– А кто охранять меня будет?
– Один поедете.
Ну, значит, не страшно. Зараза невелика.
Дал он мне целую пачку всяких бумажек и говорит:
– Запомните, поезд отходит сегодня, в двенадцать часов ночи. Вот билет.
Я поужинал. Хлеб и сахар завязал в узелок, да в карман. И пошел на вокзал. «Ну, когда, – думаю, – будут они, эти двенадцать часов?» Пришел на вокзал – стемнелось. Спрашиваю дежурного:
– Сколько времени?
– А вон часы.
Он показал на стенные часы. Смотрю – такие же, как и на киевском вокзале, – круглые, только палочки и стрелки поменьше. Потоптался я возле них, поморгал глазами – и пошел на перрон. Там стоял какой-то поезд. Думаю, спросить надо – куда идет. Забыл название города, в который мне ехать. Выну командировку, подойду к фонарю, прочту – Днепропетровск. От фонаря отойду – опять позабуду. Ладно, вошел в вагон. Он и поехал… Смотрю я – темно, и ни одного человека. Куда едем?.. Прошел в другой вагон – никого. В третий – пусто. Что такое? Неужели меня одного везут?
Идет вожатая с фонарем, я к ней:
– Гражданочка, скажите, куда я еду?
– А вам куда надо?
– Не знаю.
– Как не знаешь?! – Она посветила мне в лицо и эдак строго: – Билет есть?
– Тут он, в кармане… Да в темноте не видно.
Ну, прочла она и говорит:
– Правильно, в Днепропетровск. Только в Хмельницке пересадка будет. Смотри мимо не прокати.
Доехали до Хмельницка. Слез, спрашиваю:
– Когда поезд на Днепропетровск?
– В девять часов.
Подошел к часам, смотрю и думаю: «Ну, когда они будут, эти девять часов?» Тут, спасибо, муж с женой оказались. Такие вежливые, и все промеж себя: «Ту-ту-ту…» Я их спрашиваю:
– Когда поезд на Днепропетровск?
– В девять часов.
– Это я знаю, но когда?
Они переглянулись и с опаской чуть отступили от меня.
– А вы кто такой? Чей будете?
– Я брёховский.
Они опять переглянулись.
– Куда же вы едете?
– В Днепропетровск.
– Как же вы без продуктов едете?
– Да у меня есть… Вот! – Я вынул из кармана узелок с хлебом-сахаром и показал им.
Они засмеялись.
– А сколько времени тебе ехать, ты знаешь?
– Нет.
– Двое суток.
– Ох, беда! – я только головой покачал.
– А деньги есть у тебя? Документы?
– Денег только пятачок. А документы есть.
Я протянул им все свои бумажки. Они прочли и говорят:
– Голова, у тебя же здесь и аттестат продовольственный. На два дня продукты выписаны. Надо было получить.
– Где?
– На складе.
– Ох, беда!
Ну что делать! Дали они мне хлебца да селедочки. Сахарок вынул. Поел я, попил чайку, залез на верхнюю полку в вагоне и двое суток проспал.
Просыпаюсь – смотрю в окно: станция Днепре. Ого, это ж моя остановка! Вскочил я, натянул сапоги и выбежал из вагона. На станции вынул из кармана свое командировочное, читаю: «Днепропетровск». Вроде бы не соответствует. Спрашиваю дежурного в красной фуражке:
– Днепре значит по-русски Днепропетровск, что ли?
– Нет. Днепропетровск на том берегу реки.
Я глядь – а поезд уже тронулся. Я бежать… Еле догнал последний вагон. Прыгнул, да нога сорвалась. Чуть под поезд не угодил.
Ну, ладно. Таперика, приехал я в Днепропетровск вечером. Вокзал высокий да красивый – век такого не видывал. А на часах под цифрами всякие зверюшки бронзовые блестят. Стою, смотрю. Кто-то сзади спросил:
– Чего засмотрелся? Сыграть хочешь?
Оборачиваюсь – парень. Кепчонка на затылке, папироска в зубах. Веселый да приветливый. Ну, прямо как из той песни: «покоритель сердец чернобровый красавец Андрюшка…», в которого влюбилась Катя-пастушка.
– Часы, – говорю, – интересные.
– А ты что, под часами свидание назначил?
– Я приезжий. Мне в госпиталь надо. В восемь часов утра.
– Ну и что?
– Да вот хочу отгадать – под какими зверюшками будут стрелки, когда мне идти надо.
– Ваня, милый! Ты по часам не понимаешь? – засмеялся парень. Хоть и стыдно мне было, но я все же признался.
– Только я не Ваня, а Петя.
– Это ничего! – он меня хлопнул по плечу. – А когда тебе надо идти?
– В восемь часов утра.
– Ну, я тебе подскажу завтра. Откуда ты?
Я рассказал. Он все восторгался:
– Какая у тебя форма красивая!.. Особенно фуражка… И шинель по фасону. Эх, мне бы поступить в Красную Армию, да не знаю, как это делается.
– Очень просто, – говорю, – подавай заявление, и тебя примут. Ты сын трудового народа?
– Само собой, потомственный пролетарий.
И так мы с ним разговорились… Просто друзьями стали. Лег я спать на скамью – он меня еще шинелью накрыл.
– Спи, – говорит, – когда надо, разбужу.
Проснулся я – светло, утро. Смотрю – дружка моего нигде нет. И ни шинели на мне, ни фуражки. Туда-сюда бегаю, спрашиваю. Нет нигде…
– А сколько времени?
– Семь часов, – ответил дежурный.
Брат родной! Надо в госпиталь. Вышел я на площадь – и четвертый номер трамвая как раз стоит. Ну и хорошо! Вспомнил я, что лепком наказывал: садись, трамвай довезет тебя прямо до госпиталя.
Ехал я ехал в этом трамвае, все жду, когда остановится он окончательно и госпиталь будет. Но он все идет да идет: народ кто сходит, кто входит. А я все сижу да сижу. Смотрю в окошко: эге, опять вокзал! Тут ко мне подходит вагоновожатая и спрашивает:
– Красноармеец, тебе куда надо?
– В госпиталь.
– Так что ж вы мне не сказали? Я бы вас высадила где нужно.
Ну ладно. Нашел я этот госпиталь. Подхожу – ворота, за воротами будка. Смотрю – звонок, кнопочка белая. Ну кто меня учил, где я слыхал до этого, что надо нажимать на кнопку? Таперика я вам сказать не могу. Только тогда я нажал на кнопку. Жму – никто не выходит. Опять нажму… Тишина.
Что такое? Заглянул я за ворота – оказывается, будка пустая и даже разваленная сзади. Брат родной!..
Подхожу к большим дверям. Там опять кнопка от звонка. Нажал я – слышу, бегут сверху. Только гул от ступеней. Появляется дежурный в военной форме:
– Тебе кого?
– Мне в госпиталь.
– Приемный покой с той стороны, – он махнул рукой.
Пошел я на ту сторону. Смотрю – дверь открыта и ступеньки ведут куда-то вниз. Шел я по ним, шел. Открываю еще одну дверь. Что такое? Днем электрический свет горит. Печь огромная топится, жаром от нее так и пышет. А передо мной чумазая харя – только одни зубы видны.
– Тебе чего? – спрашивает.
– Да мне в госпиталь на лечение…
– Ложись вон туда, – кивает он на кучу угля, – я те лопатой вылечу.
– Тьфу ты, напастье!..
Поднялся я наверх из этого ада, сел у порога на корточки и сижу. Думаю: провались ты все пропадом. Дальше никуда не пойду. Вдруг сестра выходит:
– Вы куда? Встал, доложил.
– А что у тебя за болезнь?
Я замялся… позабыл опять:
– Какой-то вроде бы назем.
Она засмеялась:
– Эх ты, назем! Давай документы – разберемся.
Полез я в брючный карман, а там ни документов, ни пятачка. Обчистил меня тот друг на вокзале… Пришлось мою часть запрашивать. Мороки было… И все из-за часов получилось.
Тут может возникнуть вопрос: как же так, лепком дал мне пятачок на трамвай, а я вспомнил об нем только в госпитале? Признаюсь чистосердечно – позабыл купить билет.
Вот и судите таперика, кем я был. Между прочим, через два года я как школу окончил, меня наградили именными часами за джигитовку. В тую пору я солнце на турнике крутил. На окружных смотрах меня показывали. Сказано: терпение и труд все перетрут.
Про Манолиса ГлезосаТут кстати сделать отступ от истории. Вчера у нас было колхозное собрание об оказании поддержки Манолису Глезосу. И что же выяснилось? Некоторые колхозники далеко еще не понимают разницы между положением международным и чисто внутренним. Так что нам рано почивать на лаврах и ослаблять идейно-воспитательную работу. Потому что трубадуры мирового империализма не дремлют.
Сидим, таперика, мы в клубе, проводим колхозное собрание в поддержку Манолиса Глезоса. Я доклад делаю (парторг товарищ Голованчиков в Москву уехал за паклей – теще дом строит), а Петя Долгий все какие-то бумажки пишет. Хоть он и хорошим председателем числится, а привычки руководящей так и не выработал. Ну сами посудите, – на сцене сидим, стол красным материалом покрыт, а он свиные кормушки считает (это я потом поглядел) – сколько давать сенной муки, куда свиней ставить, куда поросят…
– Товарищи! – говорю я. – Разбойничья политика мирового империализма под руководством Соединенных Штатов, то есть Америки, повсюду дает себя знать. Им мало того, что горят от напалма, иными словами от бомбежек, вьетнамские города и деревни, им мало крови патриота черной Африки Патриса Лумумбы… Таперика они добираются и до Манолиса Глезоса. Таперика им подавай и Грецию…
Ну, шире – дале.
Кончил я доклад, а Петя Долгий оторвался от своих кормушек и спрашивает:
– Вопросы имеются?
– Есть вопрос! – встал плотник Федулеев Макар. – Я вот насчет карнизов и флинтусов. Надо все ж таки разобраться. Будет решение или нет?
Я ему со всей строгостью:
– Товарищ Федулеев, мы тут вопрос решаем, а вы с карнизами и флинтусами…
– Дак что ж, карнизы не нужны, что ли? Без них тоже дом не стоит.
– Это понятно. Но мы сейчас собрались о Манолисе Глезосе поговорить.
– Да вы ж его знаете, а мы нет. Зачем тогда нас пригласили сюда?
– А затем и пригласили, чтобы решить – выступим со всей определенностью в защиту Манолиса Глезоса.
Тогда крикнул кто-то из зала:
– Это мы решили уже в докладе. Теперь давайте насчет карнизов решим!
Я повернулся к председателю вроде бы за поддержкой. А он прикрылся бумажным листком и прыскает в него. Я его решил перед людьми вывести и говорю:
– Смешного тут ничего нет. Слово имеет председатель товарищ Звонарев.
А он убрал листок из-под носа и как ни в чем не бывало сказал:
– Ну что ж, товарищи, давайте решим насчет карнизов. Кто хочет сказать?
Встал тот же Федулеев и пошел:
– Что ж у нас получается? И за карнизы и за флинтуса платят одинаково. Но ты прибей сначала карниз, а потом прибей флинтус. Карниз, он наверху. Во-первых, подставку надо какую ни на есть – или бочку, к примеру, или ящик какой-нибудь. Залезь на него да бороду кверху тяни. А прибьешь – потом ишшо перестановку этой самой бочки сделай. Да со стороны погляди – не косо ли? А теперь возьмем флинтус. На колено припал, стукнул молотком – и вся недолга. Потому как он внизу. Дак разве ж можно все равнять? Так нельзя. Это дело решить надо.
Федулеев сел, а я сказал: