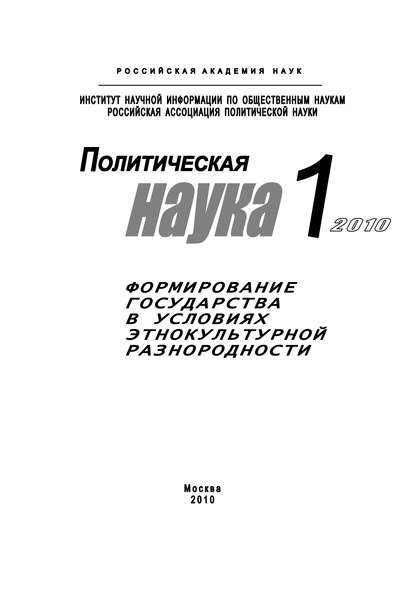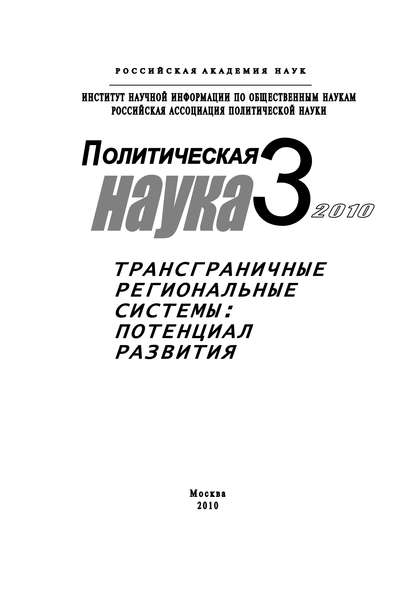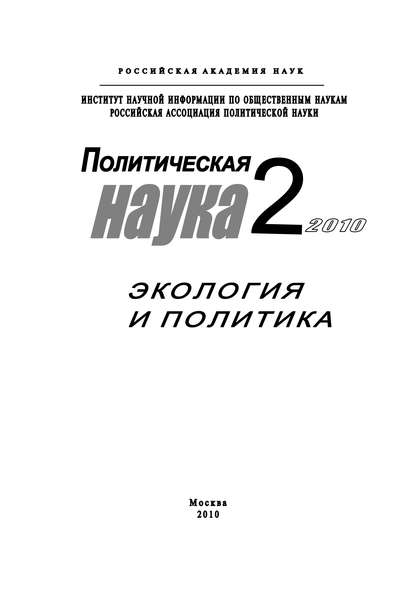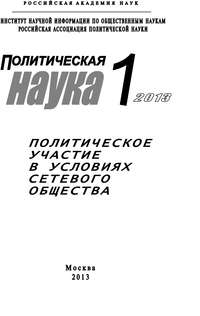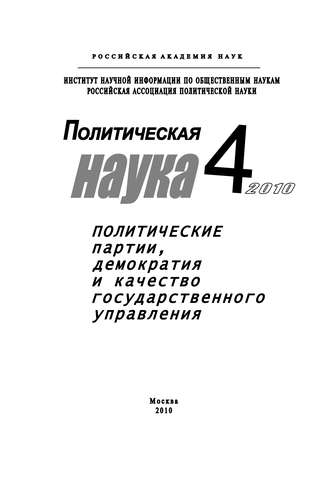
Полная версия
Политическая наука № 4 / 2010 г. Политические партии, демократия и качество государственного управления в современном обществ
В заключение авторы указывают на три повестки дня для исследователей партий, которые диктуются проблемой картелизации. Первая – это поиск более надежных эмпирических индикаторов картелизации партийной системы и партии. Вторая относится к проблеме, как и что мы изучаем, когда исследуем партии. Из тезиса картельной партии следует, что партийные стратегии обусловлены национальным контекстом гораздо больше, чем какой-то более абстрактной или транснациональной целью или идеологией. Авторы ссылаются на тот же, но несколько переиначенный афоризм: «Ныне между двумя британскими партиями, одна из которых социал-демократическая, вероятно меньше различий, чем между двумя социал-демократическими партиями, одна из которых британская». Многие характеристики и лейблы, которые сейчас используются в сравнительном анализе для идентификации партий, семейство, идентичность, идеология, статус и т.д. все больше теряют смысл. Имеют ли все еще какое-либо значение понятия «левая», или «социал-демократическая», или «христианско-демократическая», или даже «крайне правая»?
Третья повестка дня ставит вопрос, каким образом может быть организована, легитимирована и поддерживаться демократия в этих новых условиях. Если, согласно широко известному постулату, «современная демократия немыслима иначе как на основе партий», а партии фундаментальным образом меняются, то что происходит с демократией? Трансформация партий сопровождалась трансформацией характера демократии. Одним из результатов кризиса стала популярность моделей социального регулирования, которые ориентируются на неправительственные организации, сети и т.п. больше, чем на государственную власть в качестве средства управления конфликтами и распределения ценностей. Подобно модели правления на базе партийного картеля, они отдают предпочтение эффективному менеджменту перед инновациями, приспособлению перед конфликтом, консенсусу перед правилом большинства и участию заинтересованных перед массовым участием. Эти неполитические модели правления часто преподносятся как идеальные формы демократической политики, тогда как картельная система партий – как угроза ей. Однако далеко не ясно, обещают ли они сколько-нибудь бóльшую гражданскую вовлеченность или ответственность, чем политические партии, как бы картелизированы они ни были.
Применительно к партийной системе России проблему трансформации партий и демократии в статье «Дилеммы развития российской партийной системы» анализирует Ричард Саква, английский политолог, один из основателей Евразийской сети политических исследований, известный российским читателям по публикациям в сборнике «Политическая наука» и журнале «Полис», где он является также членом Международного консультативного совета.
Рассматривая различные объяснения замедленного развития партий в России, Саква выделяет эндогенный и экзогенный подходы. При первом подходе исследователи акцентируют внимание либо на социальных и культурных факторах (слабость гражданского общества, размытость классовой идентичности, культурное сопротивление членству в партии и низкая гражданская субъектность), либо на институциональном дизайне, особо выделяя «суперпрезидентскую» систему, которая возвышается над правительством, парламентом и судебной властью, воспроизводя «моноцентрическую» систему, которой подчинена вся социальная и политическая жизнь. Эндогенный подход сосредоточен на поведении самих партий. Однин из лучших примеров его использования, упомянутый в статье, – работа Риггса и Шрёдера, которые утверждают, что внезапное падение советского строя в 1989–1991 гг. прервало эволюционное развитие партийной системы, оборвав ее связи с обществом, после чего она была воссоздана сверху элитами, a ее модель укреплена последующими выборами. Партийная система будет оставаться слабой до тех пор, пока партии не восстановят действительно двусторонние связи с обществом. Как полагает Саква, исследование российской партийной системы должно принимать во внимание как эндогенные, так и экзогенные факторы, но в 2000-е годы, когда режим стал активно управлять развитием партийной системы, экзогенные факторы сделались решающими. Даже если партии выступают главными акторами на парламентских выборах, в лучшем случае они всего лишь реквизит процессов, происходящих внутри режима.
Однако сложность социальных и политических отношений в России сишком часто сводится к упрощенной модели доминирования режима. Саква утверждает, что в России возникло дуальное государство, в котором нормативно-правовой системе, основанной на конституции, бросают вызов теневые структуры2, заполненные различными конфликтующими фракциями, которые он называет «административным режимом». Взаимоотношения между ними являются главным фактором, определяющим характер современного политического процесса. Пока сохраняется этот дуализм власти, политическое развитие России остается процессом с плохо предсказуемым исходом.
Несмотря на то, что вся подсистема представительства остается второстепенной и электоральная сфера ограничена вмешательством административного режима и доминированием «Единой России», она все-таки сохранила элементарный уровень состязательности. Причиной тому служат колебания в действиях административного режима, опасающегося совершить необратимые шаги, которые сделают его откровенно авторитарной системой, а также боязнь того, что чрезмерное использование административных ресурсов подорвет его легитимность.
«Напряженность» между управляемостью политической системы и репрезентативной функцией партий в контексте заявленной инновационной модернизации России анализирует профессор Леонид Сморгунов, завкафедрой политического управления факультета политологии СПбГУ в статье «Новые партии, управляемость и потребности инновационной политики в России». Он отмечает, что формирование партийной системы в России в нынешнем десятилетии было подчинено политике стабилизации экономического и социально-политического положения, при которой управляемости политической системы отдается приоритет перед другими ее характеристиками. Эта политика составила основное содержание первого и второго сроков президентства Владимира Путина. «Диктатура закона», «равноудаленность олигархов от власти», система «навязанного консенсуса», «вертикаль власти», введение федеральных округов и изменение порядка формирования такого института, как высшее должностное лицо в субъектах Федерации (вместе с новым порядком формирования Совета Федерации), и прочие новации были направлены на усиление политико-административной автономии государства. В определенной мере решению данной задачи способствовал также режим суперпрезидентства. При этом, как считает автор, консолидационная стратегия политических элит и ослабление конкуренции являлись скорее основой установления режима «управляемой демократии», чем его результатом.
Российский опыт продемонстрировал любопытную картину партийной системы, состоящей из партий, основная линия поведения которых заключается в том, чтобы быть символом и выразителем некоторой тотальности, общенародности, патриотизма и государственности. При этом Сморгунов ссылается на исследование Кеннета Бенуа, который обнаружил, что в выборе между репрезентативностью и управляемостью к первой часто взывают оппозиционные партии, однако когда они попадают во власть, то начинают отмечать преимущества управляемости, используя аргументы общих интересов для продвижения на самом деле своих собственных. Формирование партийной системы с явным креном в сторону одной доминантной партии создает условия для управляемости, но одновременно ставит под вопрос эффективность партийной системы с точки зрения представительства интересов. Противоречие между управляемостью и репрезентативностью становится проблемой, когда на повестку дня выходит политика модернизации страны. Возможность власти реализовать эту политику определяется не только имеющимися у нее ресурсами, но и условиями организации государственного управления. В принципе технологическая модернизация может осуществляться и в условиях доминирования одной политической силы. Что же касается экономической и социально-политической модернизации, то ее адекватной средой является плюрализация.
В последнее время был предпринят ряд политических шагов для повышения репрезентативности представительных органов. Могут ли эти меры повысить шансы появления новых парламентских партий? Новые выборы будут проходить под влиянием фактора президентских выборов 2012 г. Хотя, как считает автор, радикальные перемены маловероятны, изменение политической ситуации может подвигнуть избирателей на определенное изменение электорального поведения. Партии в новых политических условиях будут тем успешнее, чем более чувствительными они станут к меняющейся массовой поддержке.
Управляемость политической системы, достижению которой было подчинено формирование российской многопартийности, далеко не то же самое, что качество государственного управления, оцениваемое по его результатам для общества. Отношение между качествами партийной системы и качеством государственного управления является второй темой номера. Его исследованию посвящена статья хорошо известного отечественным политологам своими сравнительными исследованиями партий Кеннета Джанды «Governance, верховенство закона и партийные системы», написанная на материале его монографии «Party Systems and Country Governance», которая выйдет из печати в 2011 г.
«The Encyclopedia of Governance» была опубликована еще в 2007 г., однако в русскоязычном политологическом дискурсе этому термину пока нет общепринятого аналога. Решение проблемы его перевода было подсказано самим Джандой, который справедливо полагает, что термины – всего лишь лейблы понятий и сами по себе не могуг быть верными или неверными, а только лишь более или менее полезными в научной коммуникации. Они полезны тогда, когда за определенным термином закреплено определенное понятие, и только оно. Поэтому в переводе статьи было решено оставить оригинальный лейбл «governance» за понятием, определению содержания которого посвящена добрая половина статьи.
Это понятие относится к государственному управлению, используется для обозначения того, насколько хорошо работают правительства в разных странах, и характеризует конечные результаты управления, а не процесс или институты. В полной форме предложенное автором определение таково: governance – это мера предоставления государством своим гражданам желаемых благ (плодов) управления по приемлемым ценам. Такое определение, во-первых, исключает из «благ управления» то, чего граждане не желали бы иметь (например, АЭС) или хотели бы (например, транснациональная железнодорожная магистраль), но только по разумной цене. Во-вторых, оно включает в себя слово «мера», что предполагает возможность ранжирования governance в любой стране от плохого к хорошему. Этим авторское определение отличается от широко известного структурно-процессуального определения Всемирного банка: «Governance состоит из традиций и институтов, посредством которых в стране осуществляется власть, и включает процессы, посредством которых правительства выбираются, контролируются и смещаются; способность правительства эффективно формулировать и реализовывать состоятельный политический курс; уважение гражданами и государством институтов, регламентирующих экономические и социальные взаимодействия между ними».
Как отмечает Джанда, существует убеждение в том, что на качество государственного управления влияют качества партийной системы. Организации, занимающиеся поддержкой развития демократии, обычно борются с фрагментированностью партийных систем, а также стимулируют их устойчивость и конкуренцию партий. Если предположение, связывающее характеристики партийной системы с качеством governance, верно, то государства, партийные системы которых имеют более высокие рейтинги по тем характеристикам, которым отдают предпочтение агентства по оказанию помощи демократии, должны также получать более высокие рейтинги по общепринятым индикаторам качества governance. Такие индикаторы разработаны Всемирным банком: 1) эффективность работы правительства (government effectiveness); 2) верховенство закона (the rule of law); 3) контроль над коррупцией (control of corruption); 4) качество законодательства (regulatory quality); 5) полити-ческая стабильность (political stability); 6) право голоса и подотчетность власти гражданам (voice and accountability).
Во многих концепциях governance центральным является понятие «верховенство закона». Индикатор «верховенство закона» Всемирного банка измеряет, «в какой мере акторы доверяют и подчиняются правовым нормам общества», и включает «степень защищенности контрактов и прав собственности, работу правоохранительных органов и органов правосудия», а также «ожидаемость преступности и насилия», и указывает на место конкретного государства среди других по данному показателю. Этот индикатор характеризуется наибольшим средним значением коэффициентов корреляции с остальными пятью индикаторами.
Джанда задался целью проверить, как различия в таких характеристиках национальных партийных систем, как фрагментированность, конкурентность и изменчивость, влияют на качество governance, измеренное индексом «верховенство закона» (ВЗ) Всемирного банка за 2007 г.
Как он отмечает, даже самые убежденные поборники партийной политики вряд ли станут утверждать, что характеристики партийной системы являются основными факторами, влияющими на качество governance. Почти все исследователи находят сильную положительную связь между национальным богатством (измеренным в душевом ВВП) и governance. Кроме того, некоторые исследователи высказывают гипотезу о том, что чем больше страна, тем ниже качество governance. Уравнение множественной регрессии отклика ВЗ на предикторы «богатство» и «размер территории», построенное Джандой, показало, что эти предикторы объясняют почти 2/3 межстрановой вариации показателя ВЗ по 212 странам. Затем Джанда поверил три гипотезы о влиянии партийной системы на ВЗ как ключевой индикатор governance при неизменности показателей национального богатства и размеров территории государства.
1. Чем более фрагментирована партийная система, тем ниже «верховенство закона».
2. Чем выше конкурентность партийной системы, тем выше «верховенство закона».
3. Чем выше волатильность партийной системы, тем ниже «верховенство закона».
Исследователи диаметрально расходятся в оценке влияния фрагментированности на политический процесс и качество управления. Однако проверка Джандой шести разных показателей фрагментированности партийной системы выявила, что ни один из них не оказался статистически значимым. Тем самым была отвергнута первая гипотеза: чем более фрагментирована партийная система, тем ниже ВЗ.
Хотя, как отмечает Джанда, для конкурентности партийной системы, возможно, еще не найдено адекватного измерителя, сам концепт представляется важным с теоретической точки зрения: партийная конкуренция на открытых выборах является основным институциональным инструментом, используемым в современных политических системах для претворения в жизнь идеалов демократии и защиты представительного правления. Исследование Джанды подтвердило гипотезу: чем выше конкурентность партийной системы, тем выше «верховенство закона» для «электоральных демократий», т.е. тех стран, где по определению неправительственной организации «Freedom House» наряду с прочими критериями «последние общенациональные выборы в национальный законодательный орган являлись свободными и справедливыми».
В теории стабильность партийной системы оказывает положительное влияние на государственное управление. Однако, как и в случае с фрагментированностью, некоторые исследователи высказывают мнения, противоречащие этой теории: волатильность электората укрепляет позиции принципала и заставляет агентов действовать в большей степени в интересах принципала, чем в своих собственных; высокая волатильность электората может рассматриваться как средство очищения системы, устраняющее неэффективные партии и оставляющее малое число партий конкурировать за голоса избирателей и право формировать правительство; волатильность мест – в особенности в «новых демократиях» – может способствовать оживлению ранее стагнировавших партийных систем: особенно низкие и особенно высокие уровни стабильности партийной системы оказывают разрушительное влияние на постепенное становление подотчетности правительств избирателям.
Проверка Джандой теории показала, что стабильность партийной системы способствует повышению качества governance, но лишь в ситуации конкурентных выборов, т.е. в «электоральных демократиях».
Сусанна Пшизова, доцент факультета государственного управления МГУ, возвращается к теме кризиса партийной демократии, рассматривая изменение отношения между управляющими и управляемыми в статье «От агрегирования интересов к политическому спин-контролю». В традиционной парадигме представительной демократии партии выступают посредниками между государством и гражданами, которые агрегируют запросы общества, формируют на их основе политику государства и тем самым легитимируют управляющих, но реально, как показывает автор статьи, сейчас усилия руководства правящих партий и партийной элиты на ключевых постах государства направлены больше на формирование в обществе благоприятного образа власти и проводимой ею политики. По сути, они предпринимаются в русле более широких попыток остановить эррозию легитимности претензии управляющих на свое право управлять. В анализе причин этого явления автор статьи весьма близок к позициям Игнаци, а также Каца и Мэира, представленным в настоящем выпуске.
Избираемые правительства озабочены своими рейтингами и затрачивают немало усилий для поддержания их на желаемом уровне. К 80-м годам ХХ в. функция связей с общественностью была поручена специализированным службам, которые стали повсеместно появляться при политических структурах. Эволюцию их отношений с политиками описывает известный представитель этого цеха, которого цитирует автор: «Сначала клиенты говорили нам: “Вот – наше послание. Идите, доставьте его”. Потом они стали спрашивать: “Каким должно быть наше послание?” Теперь же: “Что мы должны делать?”».
Никем не избираемые и практически неподконтрольные гражданам специалисты по «социальному программированию» (некий эвфимизм манипулирования массовыми настроениями общества) встали таким образом рядом с публичными политиками, притом что существенная часть их деятельности носит скрытный характер. С начала 90-х годов в политический обиход входит понятие «спин-доктор» для обозначения специалиста, обеспечивающего управление медиасредой в интересах своего нанимателя, однако сами специалисты, занимающиеся продвижением положительного образа властей в общественном сознании, не любят называть себя так. В России один из тех, кого эксперты единодушно считают спин-доктором и даже менеджером всего партийно-политического пространства, занимает пост заместителя главы администрации президента.
Вообще, как считает автор, в странах, подобных постсоветской России, где отсутствуют традиции ответственного поведения управляющих и гражданского контроля за ними со стороны управляемых, указанные перемены привели к возникновению более радикальных и от того более опасных вариантов этих явлений. Так, в России наблюдается низкий уровень корреляции между отношением граждан к действующим политикам, т.е. к тем, кто вырабатывает и реализует государственную политику, и оценкой результатов их деятельности, т.е. того, как эта политика влияет на их жизнь. Вероятно, что рациональное объяснение этого парадокса следует искать в манипулировании общественным мнением.
Однако, несмотря на очевидные краткосрочные преимущества и выгоды, извлекаемые отдельными политиками и чиновниками с помощью специалистов по «социальному программированию», возможности манипулирования общественным сознанием небезграничны: при очень высоких рейтингах правителей уровень легитимности режима правления остается устойчиво низким, что в долгосрочной перспективе чревато тяжелыми последствиями для общества.
Было бы непозволительной методологической ошибкой механически переносить на российскую почву выводы авторов, сделанные на материале политий Запада. Россия – это «особый» случай. Если в Европе массовая партия ушла в прошлое, то «Единая Россия» представляет как одно из своих главных достижений рост числа членов, которое в 2008 г. превысило 1814 тыс. человек. М. Дюверже связывал полностью пропорциональную систему выборов с представительством множества независимых партий в парламенте, но в России эта закономерность сработала прямо противоположным образом: повсюду избиратели оценивают политиков по последствиям для общества проводимой ими политики, в России опросы общественного мнения на протяжении всех последних лет демонстрируют недостижимо высокий для западных политиков уровень доверия граждан действующим руководителям страны и одновременно устойчиво низкую оценку результатов их деятельности в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства, жилищного строительства и т.д. – т.е. там, где она непосредственно влияет на жизнь людей. Общей закономерностью является повышение результатов государственного управления c ростом ВВП. В России этот рост сопровождался деградацией ее институтов.
В то же время представленные в номере результаты исследований стимулируют постановку перед отечественной политологией целого ряда вопросов, решение которых значимо не только для науки, но и для политической практики. Насколько актуален для исследования российской партийной системы вывод Лоусон о необходимости отказаться от априорного представления, что многопартийность обязательно ограничивает авторитарное правление, и попытаться понять реальные отношения власти с партиями, чтобы возродить партии в качестве инструмента демократии?
Действующий президент Дмитрий Медведев говорит о необходимости всесторонней модернизации России, основанной на ценностях и институтах демократии. Одним из необходимых условий ее успешного осуществления является радикальное изменение качества государственного управления, принимая во внимание, что Россия, по оценкам независимых экспертов, находится сейчас в нижней части мирового рейтинга по этому показателю. Возможно ли улучшение качества управления в условиях практического отсутствия политической конкуренции?
Инновационная модернизация предполагает превращение России в постиндустриальное общество. Дмитрий Медведев в программной статье «Россия, вперед!» заявляет: «Считаю технологическое развитие приоритетной общественной и государственной задачей еще и потому, что научно-технический прогресс неразрывно связан с прогрессом политических систем». Но если ценности и институты демократии, включая политические партии и партийные системы, в постиндустриальном обществе переживают кризис легитимности, то что должно служить ориентирами прогресса политической системы России?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
В оригинале эти три лица партии – party in public office (PPO), party in central office (PCO) и party on the ground (POG). – Прим. ред.
2
В оригинале – arbitrary arrangements. – Прим. ред.