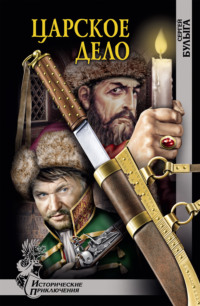Полная версия
Железный волк
Да только не дослушали его – запели. Кто им, выжлятникам, Ширяй? Посадский чин, он только языком болтать и может, гневно подумал Всеслав. И дальше думал: вот пусть там, на посаде, болтает! А пардуса и без него видали. Вышел Третьяк, накинул на себя еще мокрую, липкую шкуру, гигикнул, ринулся в костер и покатился по угольям, и зарычал, завыл! И все тоже выть! И орать! Вот это им весело! Это им надо! Вот это их разговор! А Мономах – он далеко. И Зовуна здесь не услышишь. Вина, кричат, давай! Еще вина! Пир шел горой. Они про все забыли. И это хорошо, ибо всему свой срок. Князь встал. Сухой поднялся следом. Ширяй сидел – хотел было подняться, да не смог, – смотрел на них и медленно моргал. Любимов прихвостень, крикун. Вот в среду, видно, покричит.
И пусть себе кричит. Князь развернулся и пошел. Сухой шел следом, провожал. Ну вот, в сердцах думал Всеслав, и это тоже кончилась – его последняя охота. И день прошел. А что он сделал? Ничего! Зол был Всеслав! Шел как медведь – то по тропе, то напролом, ветки трещали. Сухой чуть поспевал за ним и ничего не говорил, и руки не подавал, и вперед не забегал – потому что знал: князь этого шибко не любит! Так они шли и шли, и пришли к берегу. Там Всеслав Сухому даже не кивнул, сам сошел в лодку, сел, махнул рукой – и Невьяны поспешно схватились за весла. Хватко гребли. И споро. Всеслав сидел, насупившись, смотрел по сторонам, по берегам. Быстро темнело. У Святослава было три сына: два от Предславы, дочери угорского хакана, это как будто короля, а третий от Малуши, ключницы. Собираясь в Царьград, Святослав так сказал: «Не вернусь. Не хочу! Вот поделил я вам Русь – и владейте». «А старшим будет кто?» – спросила бабка, Ольга. «А старшим – старший», – сказал Святослав. «Как это?» – закричала Ольга. «А так! Потому что он старший!» – сказал Святослав. И ушел.
А старшим был Владимир. Но Ольга не любила старшего. Он же не только был рабынич, но он, а это еще хуже, был, как и отец его, поганец. А младших, Ярополка и Олега, королевичей, бабка склоняла в ромейскую веру. А Святослав ромеев бил, едва Царьград не взял! И взял бы, если бы его не предали. А предали – и отступила русь, и мало их тогда осталось, и зимовали на Белобережье, голодали. Но не смирился Святослав, и весной опять собрался на ромеев. Но было у него мало дружины. Поэтому как только сошел снег, он послал гонца на Русь просить у сыновей подмоги. Ушел гонец, и Святослав ждал его, ждал… И, не дождавшись, сказал так: «Пойду я сам и сам возьму, сколько мне надо!» И пошел. И очень скоро шел! Вверх по Днепру, вверх, вверх! И говорил: «Ну, сыновья мои, приду – тогда не обессудьте!» И шел он, шел… Да не дошел! Потому что ведь сам говорил: не вернусь! А говорил, потому что был знак. И теперь всё по знаку и было: не устерегся Святослав, перехватили его на порогах. Дружина, прежде храбрая, вся разбежалась кто куда, и степняки срубили Святославу голову и сделали из княжеского черепа ковш для вина – для ромейского. Потому что одни говорят – печенегов ромеи купили. А другие говорят, что нет, а что купили те, которые еще сами поганцы, а в ромейцы еще только собираются. Потому что дело же поганое! И если бы оно на этом бы закончилось – так нет! Кровь призывает только кровь: Ярополк на Олега пошел – и убил. И стал грозить Владимиру. Владимир убежал за море, привел варягов и пошел на Ярополка – чтобы, он так говорил, отмстить за Олега. И за отца – вот что еще сказал тогда Владимир! Ибо тогда был такой слух, что это будто Ярополк, убоявшись прихода отца, подкупил печенегов. А так ли это было или нет, никто на Полтеске не знал, знать не желал и не загадывал узнать, ибо вы сами по себе, мы сами, меча меж нами нет, и от Оскольда вот уже сто лет мирно живем, а что вы там, находники, между собой не поделили, так вы и далее между собой рядитесь ли, рубитесь – нам до этого нет дела. Как вдруг…
Является в Полтеск Добрыня, брат Малуши-ключницы, дядя Владимира… И сватает за князя своего, рабынича, нашу Рогнеду! Вот дерзость! Но это не всё! Он же еще, этот Добрыня, говорит, что свадьба будет в Киеве, в великокняжеском тереме, и кто туда вместе с Владимиром пойдет, не пожалеет, ибо Владимир столь щедр, что готов платить по десять диргемов за уключину, а тех уключин на каждой ладье пусть будет столько-то, а тех ладей ты, Полтеск, дай Владимиру под его руку столько-то, и тогда если посчитать, то и в Царьграде больше не возьмешь, чем в Киеве на свадебном пиру на мерзких Ярополковых костях!
Слушал это Рогволод, слушал. Потом, когда Добрыня замолчал, он еще немного подождал и только потом уже сказал:
– Нет, не пойду. И не зовите.
– Но это почему? – удивился Добрыня.
– А потому, что зла на вас не держим! – отвечает ему Рогволод и улыбается. И дальше говорит: – Твой князь мне брат. Но и киянин Ярополк мне брат. А разве брат на брата ходит?
– Как это «брат»? – удивился Добрыня.
– А так! – сказал князь Рогволод. – Ибо есть братья по отцу, по матери. Это если по крови считать. Но есть еще совсем другие братья. Только тебе такого не понять, рабынич.
Рабынич! Так он и сказал – насмешливо, прищурившись, – как будто плетью оттянул! Мол, знай, брат ключницы, и впредь не забывай, где твое место! Да разве смерда словом урезонишь?! Позеленел Добрыня, закричал:
– Ну, пес! Не отсидишься!
– Да, – кивнул Рогволод, – не отсижусь. Но и тебе сидеть передо мной не позволю. Эй, сыновья мои!
И подступили Бурислав и Славомир, взяли Добрыню под белые руки и вывели прочь. Указали рабыничу путь! Ведь срам какой – такое предложить! Да что они, находники, совсем ума лишились? Ведь он, Владимир Святославич, давно уже женат, жену в варягах взял, и у них уже есть сын, младенец Вышеслав. Так что же получается? Что Вышеславу, как старшему сыну, после достанется вся отчина. А Рогнединым, как младшим, тогда что? Вот где позор! Нет, не бывать тому!
Да только было так! И даже горше. Пришли они, варяги с новгородцами. Встречали их всем Полтеском. Но одолела русь, и полегли князь полтеский и сыновья его, и вся их дружина. И по их костям Владимир конно въехал в Лживые Ворота, в терем вошел, сел там, где прежде Рогволод сидел, велел – и привели ее, простоволосую, опустилась она перед ним на колени, разула его, и взял он, прадед твой, ее…
Но, правда, после говорили люди, что будто бы в ту ночь было Рогнеде такое видение – являлся к ней сам Бус и призывал ее смириться, и обещал, что не оставит он ее и сыновей ее, а после наведет их на Владимира! Вот только было ли такое? Ведь прежде Буса видели только князья или их сыновья, и только им Бус вещал, а кто такая Рогнеда? Рогнеда – это только дочь, а дочь – это не кровь, не род, дочь – это так себе. Тебе, Всеслав, Бог не дал дочерей, а только сыновей…
3
– Князь! Князь! – послышалось. – Вставай!
Всеслав очнулся. И увидел, что он сидит в лодке. А лодка стоит возле берега. И уже совсем темно, день кончился. Что ж, кончился так кончился. Всеслав поднялся и вышел из лодки. Потом они втроем втащили ее на прибрежный песок. Постояли еще, помолчали. А нужно было сразу уходить, и Всеслав это знал, да вот ноги не шли. Странно это, подумал Всеслав, не к добру. Вдруг Ухватый сказал:
– Не бойся, князь! Бог не оставит.
Всеслав посмотрел на него и сердито спросил:
– Чего ты это вдруг?
– Так! Тень стоит.
– Тень? – будто удивился князь. – Какая? Где?
А сам похолодел…
– Тень! – тут же встрял Копыто. – Какая тень, когда кругом темно? Не слушай его, князь. Глуп он! Глуп! Глуп! – и засмеялся.
Да, и вправду смешно. Князь мотнул головой и сказал:
– Глуп! Это верно.
И развернулся, пошел вверх по тропке. Было совсем темно. И грязно! Князь поскользнулся раз, второй. Снизу послышалось:
– Князь! Погоди!
Но он их упредил:
– Не лезьте! Сам дойду!
И они не полезли, остались внизу. А наверху его уже заждались – в воротах горел свет и были видны сторожа. Увидели его и расступились. Всеслав прошел через ворота, на сторожей даже не глянул. Сторожа испуганно молчали. Они даже следом за ним не пошли, огня не понесли, так оробели. Теперь стоят, небось, и крестятся, гневно подумал Всеслав. И пусть себе! А ты, думал он дальше, теперь как злодей: и через двор – во тьме, и на крыльцо – во тьме. Заскрипели ступени. Скрипят – значит, жив.
А в тереме тихо, все спят. А если и не спят, то, значит, таятся. А вот зато раньше, подумал Всеслав, когда он возвращался от Хозяина… Так ведь не один он тогда возвращался! И не ночью, а при свете. В бубны били, плясали, кричали: «Кормилец наш! Заступник наш!» А теперь вон как здесь тихо! И совсем темно. Всеслав прошел наверх, остановился в гриднице. Снял полушубок, положил его на лавку. Меч отстегнул. И шапку снял, смял в кулаке. И тяжело, по-стариковски, сел за стол. Сводило спину – и он сел ровней, и спину понемногу отпустило. Так и сидел он за столом, прямой как жердь, держал в руке шапку, молчал.
Долго молчал! После вошел Игнат и терпеливо ждал – тоже немало. Вдруг князь сказал ему:
– А позови-ка мне Неклюда. И чтобы он при всём пришел!
– Так ночь уже.
– Я подожду!
Игнат ушел. Князь ждал. Мял шапку, мял, потом смахнул ее. Она мягко упала на пол. Тихо в тереме, даже Бережки не слышно. Отец в последний год очень любил молчать. Вот позовет тебя и скажет: «Сядь!» И ты сидишь. И молчишь вместе с ним. И вот темно уже, день кончился, а не вставай, нельзя. Отец все смотрит на тебя и смотрит… Страх тогда брал! Вот, думаешь, родной отец перед тобой, а страшно. Зачем он молчит? Но он так и не сказал, зачем. Он так и умер молча. Он только за три дня до… этого… сказал: «Не будь таким, как я. Не верь никому! И никому не обещай – ничего!». А больше ничего не говорил. Ну, только что еще сказал: «Дай руку». А потом схоронили отца – по ромейским обрядам. Бабушка очень сердилась, кричала, но не послушали ее, снесли отца к Илье, отпели. Это потом уже, когда Илья сгорел, а был он одноверхий, деревянный, ты порешил, что это знак, и дал обет поставить храм из камня.
Шаги! Всеслав вскочил…
Но тут же их узнал и успокоился. Сел, приосанился. Вошел Неклюд, отдал поклон и замер. Был он помятый, заспанный. Моргал…
Зато потом, подумал князь, не проморгает! Когда пять лет тому назад латгаллу замиряли, так он, Неклюд, попался им в засаду, и окровянили его и понесли на капище, и стали его жечь их поганским священным огнем, а он, Неклюд, вдруг как засмеётся!..
– Ты подойди, Неклюд, – строго сказал Всеслав. – Нет, ближе стань. Совсем. Вот так…
И Всеслав замолчал, еще раз осмотрел Неклюда, собрался с духом… и сказал – чуть слышно:
– Так вот, Неклюд. Ты – убегай.
– Как это? – не понял Неклюд.
– Так! Коня возьми. И – к брату моему!
– К которому?
– Да к самому старшему! – гневно ответил Всеслав. – К Великому! В Берестье! А там… Ты наклонись, Неклюд.
И стал шептать Неклюду на ухо. А после резко отстранился, долго смотрел дружиннику в глаза, после спросил:
– Запомнил?
– Да.
– Вот так ему и скажешь – слово в слово. Гони! А я тебя здесь не обижу. Вот крест! Но если что, Неклюд… Ты же меня знаешь! Да?
Неклюд молчал.
– Иди!
Неклюд ушел. Всеслав сидел, смотрел на дверь, прикидывал… Нет, правильно, думал, всё правильно! Со Святополка надо начинать, с Великого. А что Ярослав? Молод, горяч Ярослав Ярополчич. Такому разве что втолкуешь? Может, потом когда-нибудь поймет. Хотя трудно сказать! У всех одни глаза, и все одно и то же видят – но не видят. А посему идут и спотыкаются, и падают, и бьют их, головы им рубят. А рубят их такие же слепые! И всё это «Мир Божий» называется. Прости мя за сомнения… Но это ведь так!
Всеслав встал от стола и заходил по гриднице. Ночь, думал, тьма. И так и наша жизнь – тоже сплошная тьма. Но, говорят, познание – это лучина. Лучина – это свет, тепло. Страшно, зябко во тьме, неуютно. А ты, они говорят, тянись к свету, к познанию. И вот ты тянешься и тянешься. А как притронулся, сразу обжегся! И отшатнулся. А после опять. И опять! Так и мечешься всю жизнь между светом и тьмой. А что будет там, после смерти – свет или тьма? Молчит Она, не говорит, только зовет: «Иди! Там сам увидишь». А если ты уже ослеп, тогда как быть? Зачем тогда тебе свет? И вообще, кто ты такой? Червь? Червь и есть! Всю жизнь грешил – жег, грабил, убивал, обманывал – и дальше хочешь жить, цепляешься. А нужен ли ты здесь кому-нибудь? Удерживает тебя здесь кто-нибудь? Нет, конечно, никто! Всем ты здесь надоел, потому что зажился…
Как некогда зажился прадед твой Владимир Святославович. Он брата своего убил, всю Русь подмял, кровью залил, потом крестил. Грешил и каялся. А потом вновь грешил. Имел пять жен, двенадцать сыновей, своих и не своих. Любимых изгонял, а нелюбимых возвеличивал. Давал и отнимал – и вновь давал. В последний раз Борису дал Ростов, а Ярославу Новгород. Это своим сыновьям. А Святополка, своего племянника, сына убитого им брата, сперва в темницу заточил, а после при себе держал и жаловал. А после и совсем отъехал в Берестово, ближнее село, а Святополк вместо него сел в Киеве. А Ярослав, озлясь, сказал, что если это так, то он тогда будет сам по себе, не станет Святополку кланяться, ибо Святополк ему никто – он не по чести сел, но по обману! И отложился Ярослав, призвал к себе варягов и сказал: «Пойду на Киев и Святополка ссажу, сам вместо него сяду, а отца поучу!» Владимир, как про такое узнал, разъярился. Ибо такого еще не было, чтобы сын отцу грозил!.. А тут еще одно известие: явились печенеги, и тоже идут к Киеву! Но Ярослав, он далеко, в болотах ильменских, а печенеги уже близко. И повелел Владимир: «Бейте печенегов!» И вышла в степь его дружина. Повел ее Борис, младший Владимиров сын, от ромейской принцессы. А Святополк, отродье Ярополково, приемный сын, в степь не пошел, отнекался, на хворь сослался… А сам, дрожа от нетерпения, сидел в великокняжеском тереме и ждал гонца из Берестова. Да и не он один – тогда весь Киев того ждал. Ведь знали все: слаб старый князь, вот-вот преставится. А дальше что? А дальше, это тоже знали, будет смута, ибо Бориса Святополк выше себя не посчитает, и стол великокняжеский ему не уступит. А если Борис станет говорить, что Святополк ему не старший, и что он вообще не от Владимира, то Святополк тогда ответит так: «Да, я не родной ему сын, а племянник. Но я зато сын Ярополка, которого наш дед князь Святослав, в болгары уходя, здесь посадил. А твой отец, Борис, на брата своего меч поднял – и убил его. Это великий грех! И чтобы замолить его, твой отец и вернул мне мою отчину». Вот что Борису скажет Святополк. Но это же только слова. А у Бориса сила! При нем же вся отцовская дружина. Поэтому как только отойдет Владимир, сойдутся Святополк с Борисом – и будет смута на Руси великая. Но если бы сошлись только они! Так есть еще и Ярослав – родной, а не приемный сын Владимиров, не то что Святополк. И так же этот Ярослав старше Бориса по рождению! И за Ярославом Новгород, варяжская дружина. И если Ярослав еще даже Владимиру грозил, то уж Борису да Святополку он ни за что ничего не уступит! Вот что тогда должно было начаться на Руси, вот каково наследие Владимир, князь креститель, по себе за земле на своей оставлял! Вот до чего он тогда…
А может, и не он? А может, это Бус тогда, как он Рогнеде обещал, завет свой исполнял? Ведь говорил же он, что еще выйдут на Владимира его же сыновья и будет ему смерть от них. И разве было не так? Вздрогнул Всеслав, открыл глаза, осмотрелся…
Но где это он, Господи? Ведь это же не его гридница! Душно, темно, лампадка чуть мигает… Да и совсем это не гридница! А что это?
А, вот ты где! И вот когда! Ох, занесло же тебя, князь! Да что уже теперь! Молчи! И не дыши! Ведь час-то, князь, какой!..
Ночь в Берестове. Тихо. Челядь за дверью ждет. А князь Владимир помирает. Великий князь. Вот уж воистину Великий: и печенегов воевал, и ляхов, и варягов, а на ромейского царя пошел – так и того укоротил и взял с него дары великие, и взял его сестру, и даже веру взял. И этой верой одолел кощунство, Русь окрестил – и покорилась Русь, и пал Перун, и мрак развеялся, и воссияли благодать и благолепие. Вот каковы были дела его! А вот теперь он помирает. И хоть бы кто завыл по нем, запричитал. Так нет – тишь, маета. Коптит свеча. Комар звенит… А лавка напротив пустая – бояре ушли. Они долго там сидели, ждали. Но он молчал – всё собирался с силами, не хотел, чтобы голос дрожал. После все же решился, спросил:
– Что Ярослав? Одумался? А Святополк, он здесь?
Но бояре молчали. Да они даже не смотрели в его сторону, они его не услышали. Больно стало Владимиру, горько… И эта горечь ему помогла! Привстал Владимир и сказал, как прежде – ясно, громко:
– Это она, отродье Бусово, накликала!
И как подкошенный упал. Пот на лбу выступил. Хотел спросить воды, да промолчал, ибо не просит князь, но только сам берет… Вот и ушли они, а он остался. Лежал, уже не шевелясь. Кровь застывала, тело отнималось. А голова была по-прежнему ясна. И дух был не сломлен! И думал Владимир: бил он Ярополка, бил ляхов, жег Полтеск. А теперь Новгород сожжет! Вот только он встанет…
Да вот только тебе уже не встать, Владимир. И к мечу не тянись, ибо ты его уже все равно не поднимешь. И ты теперь смешон, как некогда смешон был твой сын Изяслав, когда он тоже меч не удержал. А ты над ним тогда смеялся – тайно. Но и гордился им. И ненавидел его. И ведь было за что, ведь это какой грех – сын на отца меч поднял! И нужно было Изяслава поучить – тем же мечом. Но ты тогда подумал, что ты не рабынич, а князь, и сыну мстить не стал, а поступил, как ты верил, по-княжески. Молод был, поэтому и верил. Это уже только теперь ты понимаешь, что не мстил ты сыну своему единственно из-за гордыни, а гордыня князю не советчик. Гордыня – это хмель, гордыня – это хлеб глупцов. Вспомни, как Рогволод собой гордился, что он прогнал рабынича, честь сохранил! А голову он сохранил? А власть? А дочь свою? Глупец был Рогволод! И Ярополк был такой же глупец. Сперва предал отца, после младшего брата убил, а старшего прогнал за море… А после верил в то, что можно всё это забыть, Русь поделить и сесть – он в Киеве, а ты, Владимир, старший брат, любимый Святославов сын – на севере, в болотах. И был брат Ярополк убит – опять же за свою гордыню. Тех, кто его убил, примерно наказали. И воцарился мир. И правил ты, Владимир, старший сын, один всей отчиной. И Степь в страхе держал. И сыновей растил, своих и Ярополковых, и были они все тебе равны. А жен… Был грех! Была жена варяжская, была жена чехиня, была жена – но это даже не жена, а больше как вдова – ромейская черница Ярополкова… И была Горислава. Но Горислава – это только за глаза, а так она звалась Рогнедой. И на пирах только она сидела с тобой рядом, и только одну ее ты называл княгиней. А старший сын ее, смышленый Изяслав, был весь в тебя – и ликом, и нравом. Все говорили: вот и хорошо, есть у нас князь и есть княгиня, и есть княжич, тишь на Руси, покой…
И вдруг всё рухнуло – крестились! А было это так. Сперва ты поступил по-княжески – собрал силу великую, пошел в земли ромейские и одолел бояр ромейского царя, взял с них дары великие, и их самих полонил. И стали эти полоненные бояре тебе говорить: ты, князь, возьми еще и нашу веру, тогда наш царь тебе еще даров пришлет – бесчисленно, и еще даст тебе в жены свою сестру, царевну Анну. Смеялся ты и отвечал, что у тебя и без того есть жены. На что бояре, улыбаясь, говорили, что настоящая жена должна быть веры истинной, ромейской, и царской крови – и вот тогда уже и ты не просто дикий князь поганский, но становишься вровень царю! И еще много чего прочего тогда бояре говорили, не скупились, и поминали бабушку твою, княгиню Ольгу, ромейским же царем крещеную. И слушал ты бояр… А в мыслях тоже поминал и бабушку, и брата Ярополка – когда его, убитого, на лавку положили, ты на груди его, на тоненьком шнурке, крестик увидал… и тотчас заслонил его рукой, чтобы другие не заметили. И, может, только от того потаенного крестика ты тогда в ромеях и крестился, ибо вовек ты крови Ярополковой простить себе не мог. А что слова боярские…
Ох-х, маета! Крестился князь Владимир в граде Корсуне и ромеев уже более не воевал – вернулся в Киев. Ромейский царь, возликовав, послал ему вдогон дары великие… а также и сестру свою, царевну Анну. Пока царевна ехала на Русь, низвергли идолов. Перун плыл по Днепру, кричал: «Вернусь – не пощажу!» Над ним смеялись. Шли берегом, и если он хотел пристать, кололи ему копьями в глаза, пинали его сапогами.
А князь Владимир выехал в Предславино, сельцо на речке Лыбеди, в летний княгининский дворец, к Рогнеде. Ох, не любил он Предславино! И было отчего: ведь там прежде Предслава, его мачеха, жила, и там Предславичи, Олег и Ярополк, родились и выросли. Там и Владимир возмужал. Но как! О Господи, прости ей, мачехе, и им, братьям, их гнев и их слова надменные. Ведь что ни день, то поминали: мать твоя, ключница – раба, а ты рабынич! И еще так: иди, иди, пожалуйся отцу, рабыничи – они всегда доносчики! Вот ты и молчал. А мачеха, надменная красавица, дочь короля угорского, губы кривила, щурилась. А братья твои сводные, уже входили в силу, отец уже уделы им сулил, а о тебе, рабыниче, даже и речи не было. И вдруг, так, видно, Бог решил, Предслава умерла. Но братья твои сводные тогда вконец ума лишились – и стали говорить: это она, мать этого рабынича, нашу матушку-княгиню извела, околдовала! Да не они одни, а тогда все так кричали. А отец… Что отец?! Это он только в болгарах да в хазарах был грозен, а в Киеве перед волхвами робел. И матушку твою, невинную Малушу-ключницу, испытали водой и казнили. Потому что, сказали, Перун так пожелал! И вот уже тогда, еще до крестика на братовой груди, ты в первый раз в Перуне усомнился… Да только ни к чему теперь об этом вспоминать! Отец давно в земле, и братья. А ты на ромеев пошел – и ромеев побил. Теперь везут тебе жену царских кровей, дары везут, ромейского епископа. И едешь ты в Предславино уже не как кощун – ты христианин, и равен ты царю ромейскому, и пусть теперь только посмеет кто сказать, что ты сын ключницы, рабынич. Вот как было тогда! Вот о чем думал Владимир, пока ехал в Предславино. А приехал – рассказал Рогнеде всё, как было: и о крещении своем, и о дарах, и о царевне. Потом сказал, что оставляет он Рогнеде весь этот дворец и все эти службы, и что от сыновей, которых прижил с ней, не отрекается, что будут эти сыновья всегда при нем, как он был при отце…
И поперхнулся, замолчал. И посмотрел на Рогнеду. Но не заплакала она, и не закричала, а только побелела и спросила:
– Так что, теперь мои дети будут такие же как ты рабыничи?
Владимир помертвел, ответил:
– От судьбы не уйдешь, Горислава.
Горислава! Зачем так сказал? Сам не знал – сорвалось. А она сразу р-раз! – и выхватила нож из рукава! И еще – р-раз!..
Но тут Бог сохранил! Потому что будь он тогда без креста – так и убила бы! А так нож по кресту скользнул и вышел мимо. Оттолкнул он ее, закричал:
– У, рогволожина! Змея! – и ударил ее со всех сил.
Она упала и лежит, не шелохнется. А он вскочил, сказал:
– Не жить тебе! Готовься! – и ушел.
Потом опять пришел – но уже не один, а с боярами. А она сидит на ложе, ждет. На ней длиннополая летняя шуба из драгоценных белых соболей, на голове убрус, расшитый жемчугами, изумрудные колты в ушах. Губы поджаты. Веки чуть дрожат. Вот как она тогда оделась – как невеста! И оробели все. Всем сразу Полтеск вспомнился, пожар. Стоят они, молчат. А она улыбается. Вот-вот – и засмеется она, захохочет! Владимир долго стоял, не решался, а после все-таки сказал – не своим голосом:
– Молись! Твой час пришел.
А она опять молчит. И смотрит пристально. В ее глазах нет ничего, они пустые, как у Смерти… Потом вдруг говорит она:
– Молиться? А кому? Ты всех богов моих поверг. А этому, которого ты в Корсуне купил…
– Молчи! – он закричал.
И она замолчала. Владимир на бояр оборотился. И видит – они все глаза опускают. Все они крещеные, покорные… Но ведь же чует он: у каждого из них в душе сомнение! И слабая поганская надежда – а вдруг она и впрямь ведунья, вдруг призовет она сейчас…
И закричал Владимир:
– Меч! Дайте же мне меч!
Но никто тогда даже не шелохнулся. Еще бы! Им страшно! Ибо одно давать меч на поход, на сечу, а тут – это совсем иное. Да и потом, все они думают, у князя есть свой меч, так почему же он своим рубить не хочет? Чтобы потом сказать: «Не я это, а ты! Зачем ты мне его давал?!»
И вдруг…
Выходит Изяслав! Он держит меч – большой, ему такой не по руке. Вот встал он перед матерью и заслонил ее. Владимир к нему руку протянул, велел:
– Сын! Дай мне меч!
Но Изяслав даже не шелохнулся, стоит и смотрит исподлобья. А меч тяжел, дрожит в его руке, вот-вот не сдюжит княжич Изяслав, ведь слаб еще…
И тут, ох, жарко князю стало! Ох, гадко! Ведь же когда Предслава умерла и на Малушу стали говорить, то ни отец его, прехрабрый Святослав, ни гриди, ни бояре, ни даже он сам, Владимир, – никто тогда за мать не заступился! А тут, подумалось, смотри, вот как оно воистину по-княжески! И не сдержался Владимир, и бросился к сыну. Схватил, прижал его к груди, стал целовать и приговаривать: «Сын! Сын!» Слезы текли, все это видели – пусть видят. Да, плачет грозный князь. Но сын, это ведь сын!