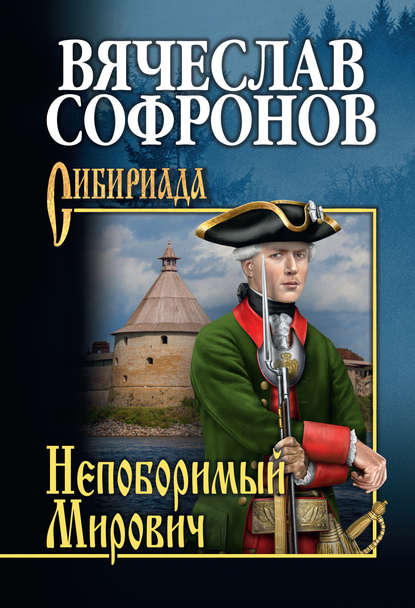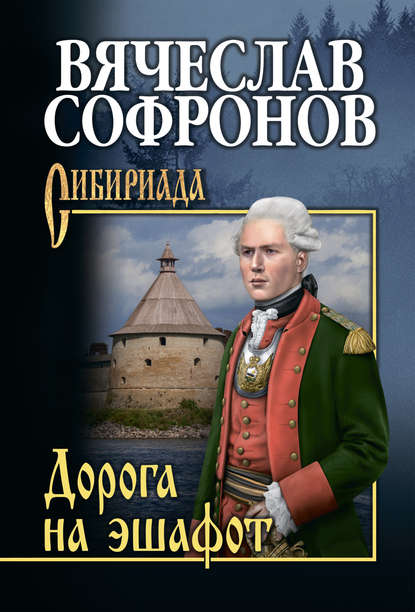Полная версия
Отрешённые люди
– Ясно, – остановил его поручик, – ты Федька?
– А кому еще быть, – сипло согласился караульный, – я и есть.
– Почему драку начал?
– Признал я аспида этого, – кивнул он на Яшку, – лихоимец он. Два года назад приехали мы с брательником моим на ярмарку в Ирбит, так он нас до нитки обобрал, обчистил, весь товар наш описал и нас пустыми домой отправил. На всю жизнь его морду поганую запомнил и поклялся убить, коль встречу когда. Змеюка подколодная! – добавил он и попытался пнуть Яшку ногой.
– Ты мне это дело брось, – погрозил ему пистолетом Кураев. – А ты чего скажешь? – обратился к Яшке.
– В гошпиталь мне надо, – простонал тот, держась рукой за спину, – не иначе как ребрышки все поломал. Как бы не помереть по дороге.
– Вот хорошо бы было, – хмыкнул караульный.
– Молчи, дурак, – перебил его Кураев, – на каторгу пойдешь, коль и в самом деле помрет.
– Из-за этого гада да на каторгу? – удивился тот. – Ему, значица, воровать можно, а мы молчи, как мышь в норе?
– Напраслину он на меня возводит, – прохныкал Яшка, – служба у меня такая, чтоб за порядком на ярмарке следить.
– А тут как оказался? – продолжал выспрашивать поручик.
– Так арестанта в Тобольск везли, а он убег от нас по дороге… – Тут он поднял глаза, увидел стоящего рядом с Кураевым Ивана Зубарева и радостно заулыбался, потянулся рукой к нему. – Да вот он сам и будет, ваше благородие.
– Кто будет? – не сразу понял Кураев, оглянувшись на Ивана.
– Он, арестант наш, – Яшка даже про боль в спине забыл, – да вы вахмистра спросите, коль мне не верите. Ну, Серафимыч, этого арестанта велено нам было в острог свести?
– Его самого, – недружелюбно подтвердил вахмистр.
– Вот оно как получается… – покачал головой поручик, в упор смотря на Ивана. – Выходит, что ты главный разбойник и есть?
– Не подходи? – крикнул Иван, взводя курок, и наставил в грудь поручику пистолет. – Выстрелю! Как есть стрельну, – и попятился на крыльцо.
– И что с того? – криво усмехнулся поручик. – Меня, допустим, убьешь, а потом что? Они тебя забьют до смерти, не сбежишь уже. Отдай лучше добром пистолет, – протянул к растерявшемуся Ивану спокойно руку. Тот чуть помедлил и со вздохом вернул пистолет Кураеву. – Так-то оно лучше, проходи в избу, видать и дальше нам вместе ехать придется. Судьба. От нее не убежишь.
– Это точно, – поддакнул Яшка радостно, но поручик так глянул на него, что он мигом осекся и замолчал.
Глава 6
К вечеру следующего дня тяжелый рыдван с трудом вполз по крутому взвозу в нагорную часть Тобольска. В нем сидел поручик Гаврила Кураев с двумя заряженными пистолетами на коленях, а напротив него сумрачные Иван Зубарев и Яшка Ерофеич. Вахмистр Серафимыч ехал следом в санях вместе с ординарцами поручика. Возница знал дорогу и быстро лавировал между лепившимися один к другому большими и малыми домами, амбарами, покосившимися заборами и безошибочно правил на городской острог, у ворот которого и остановил тяжело поводящих боками коней.
Несший службу солдат в караульной полосатой будке подскочил к карете, выслушал короткое распоряжение поручика, козырнул ему и юркнул в калитку тюремных ворот. Вскоре оттуда вышел, позевывая и потягиваясь, молодой офицер и после короткого разговора с поручиком приказал Зубареву и Яшке следовать за ним. Яшка на ходу бросил насупленный взгляд на сидящего в санях вахмистра и, полуобернувшись, спросил Кураева:
– Его, выходит, отпускаете? Неправда ваша. Мы вместе с ним снаряжены были, а в каталажку мне одному идти?
– Не разговаривать, – оборвал его дежурный офицер и грубо подтолкнул в спину. Яшка икнул и смолк.
– За ним никаких вин не вижу, – спокойно ответил Гаврила Андреевич и встал на откидную подножку рыдвана, чуть задержался, бросив последний взгляд на уводимых в крепость, и добавил: – А с вами, бог даст, когда-нибудь свидимся при лучших обстоятельствах.
Яшку с Иваном провели по полутемным сводчатым сырым переходам, быстрехонько обыскали, занесли их имена и звания в толстенный шнурованный журнал, а затем бесцеремонно втолкнули в темную камеру, закрыли скрипучую дверь едва не в пол-аршина толщиной, и снаружи глухо лязгнул металлический запор.
…Яшку выпустили на второй день по бумаге, доставленной из Тобольской таможенной конторы. Видно, помог Серафимыч, сообщивший об аресте ирбитского помощника пристава нужным людям. Зато Зубарев просидел более недели в холодной сырой камере вместе с какими-то бродягами. Те, казалось, были даже рады обретению приюта и крыши над головой и целыми днями спали или резались в самодельные карты. Иван же неимоверно страдал не только от заключения, а от унижения, в которое он попал по собственной глупости.
Несколько раз к ним в камеру заходил кто-либо из дежурных офицеров, присматривающий за порядком, и Иван каждый раз требовал, чтоб о нем сообщили губернатору или в губернское правление или хотя бы передали весточку отцу о его заключении. Но в ответ он ни разу не услышал слова участия, а обычно следовало короткое: «Не наше дело», и офицер, брезгливо морщась, уходил. Когда Иван понял, что одними уговорами ничего не добьешься, то сделал вид, что заболел, и несколько дней пролежал, не вставая, на грязном тюремном топчане, отказывался и от пищи. Это подействовало, и в один из дней утром в камеру, тяжело пыхтя и отдуваясь, заявился тюремный лекарь из немцев, которого все называли Карлом Ивановичем. Ивану приходилось несколько раз встречать его в городе, возможно, и тот узнал заключенного, потому что отнесся к нему с сочувствием, долго мял короткими пальцами живот, осмотрел горло, потрогал голову. Выбрав момент, когда сопровождающий лекаря офицер отвернулся, он шепнул:
– Христом Богом молю и всем, что вам на свете дорого, сообщите обо мне Михаилу Корнильеву. Скажите лишь – Иван Зубарев в крепости. Он в долгу не останется.
Немец больше для вида еще долго ощупывал Ивана, тяжело вздыхая, будто присутствовал на поминках, потом, мешая русские и немецкие слова, сообщил офицеру:
– Зер шлехт, – чуть подмигнув Ивану, скорчил скорбную гримасу, – тут зер холедно. Он есть болен. – И чтоб его окончательно поняли, потряс головой, изображая озноб: – Бр-р-р! Мороз!
Офицер равнодушно кивнул, но когда лекарь покряхтывая и грустно вздыхая, удалился, то занес в камеру огромный овчинный тулуп и швырнул его Ивану на топчан. А уже на другой день ранним утром в низкую дверь протиснулся не кто иной, как самолично Михаил Яковлевич Корнильев.
– Кого я вижу? – всплеснул он руками. – А я всех, кто с Ирбита вернулся, про тебя выспрашиваю, да ни от кого ничего добиться не могу. Знать не знают, ведать не ведают…
Но Иван не дал договорить, а кинулся, прижался к двоюродному брату и, сдерживая слезы, сбивчиво принялся рассказывать обо всем произошедшем с ним.
– Ах, канальи! Ну, каковы, – сокрушался купец, но глаза его смеялись и сам он насилу сдерживался, чтоб не захохотать. – Теперь на всю жизнь запомнишь, как с теми лиходеями дело иметь. Говорил я тебе, ведь говорил, что голыми руками их не возьмешь? А? Не верил мне, думал, ты самый умный. – При этом он и не вспомнил, что сам и подговорил Ивана наведаться на ярмарку и вывести лихоимцев на чистую воду, зная слабость того к правдоискательству. Иван молчал, понимая, что сейчас не время и не место выяснять, кто прав, а кто виноват. Главное, как поскорее выбраться отсюда. – Ладно, попробую завтра пробиться к губернатору, если только он в городе. Острожное начальство за тобой никакой вины не знает. Справлялся уже. Отнекиваются, мол, привез тебя какой-то офицер и сдал. А в чем ты виновен, и не объяснил. Знаешь, как у нас на Руси бывает? Один сдал, другой принял, а за что про что, и не поинтересовался.
– Так прямо сейчас меня не выпустят? – мигом сник Иван, и от его радости не осталось и следа.
– Без приказа не могут, сам понимаешь, поди, не маленький. Потерпи еще малость.
– Сколько? – выдохнул Зубарев и сжался, представив, сколько он тут еще просидит, если губернатор вдруг да уехал в столицу или еще куда.
– Завтра узнаешь, – развел руками Корнильев и, обняв его на прощание, вышел.
На счастье Ивана, губернатор Сухарев оказался в городе, и хотя президента магистрата долго не допускали к нему, но тот упорно сидел в небольшой, заставленной громоздкой мебелью приемной. Наконец губернатор за несколько минут до обеденного часа вышел из кабинета уже одетый, а следом показался генерал Киндерман, с лета находящийся в Тобольске, и какой-то молодой офицер с ним. Увидев поднявшегося ему на встречу Корнильева, Сухарев приотстал от своих попутчиков и, чуть поморщившись, спросил:
– У вас что-то срочное? Видите, я занят.
– Срочнее не бывает, – решительно ответил Корнильев, – брат мой двоюродный в острог попал неизвестно за что.
– Быть такого не может, – недоверчиво покосился на него губернатор.
– Еще как может. Прикажите проверить. Я лично справлялся, но ни комендант острога, ни в полицейской управе не знают, за что он туда посажен.
– Странно все это. – Сухареву не хотелось задерживаться, чтоб лишний раз не выслушивать нареканий жены за опоздание на обед, и он хотел было отправить купца к исправнику или к полицмейстеру, но тут неожиданно в разговор вмешался молодой офицер, что внимательно прислушивался к их словам.
– Не сочтите за дерзость, – почтительно проговорил он, – но могу пролить свет на сей прискорбный случай.
– Слушаю вас, – повернулся к нему Сухарев, понимая, что и на этот раз нареканий от жены не миновать.
– Если я правильно понял, то речь идет о купеческом сыне Иване Зубареве, что около недели назад был доставлен в местную крепость?
– Именно о нем, – согласно кивнул Корнильев, не совсем еще понимая, чем может помочь незнакомый ему офицер.
– Гаврила Андреевич Кураев, – представился тот и кратко изложил обстоятельства, при которых он встретился с Зубаревым, а затем и остальными участниками того дела. Алексей Михайлович Сухарев внимательно выслушал его и пообещал разобраться. На следующий день, к вечеру, не найдя за Иваном Васильевым сыном Зубаревым никаких вин и преступлений, его выпустили из острога.
– Императрице про вас напишу, – погрозил он пальцем офицеру, который вывел его на улицу.
– Пиши, милок, пиши. Императрица давно твоего письма ждет, – засмеялся тот вслед ему и разбойничьи свистнул, подняв с крыши стайку гревшихся у дымовой трубы воробьев.
Глава 7
Императрица Елизавета Петровна, несмотря на свое отменное здоровье, всегда внимательно прислушивалась к советам своих врачей, и если в летнее время ежедневно выезжала на экипаже за город, чтоб прогуляться по лесу, омочить босые ноги в какой-нибудь чистой речушке, то зимой взяла за правило обязательные получасовые прогулки по свежему воздуху. Особенно ей нравились заснеженные аллеи Летнего сада, где специально для нее чистили и посыпали желтым песочком дорожки, ставились в разных местах скамеечки для отдыха, покрытые меховыми полостями.
С собой на прогулки императрица обычно приглашала давнюю подругу Марфу Егоровну Шувалову, а также друга наилюбезнейшего, как она его называла, графа Алексея Григорьевича Разумовского. Тот мог часами забавлять императрицу смешными рассказами о своем детстве, проведенном в глухом селе на Украине.
Сегодня, в первую неделю Рождества, когда крепкий морозец изрядно подрумянил и без того похожие на наливные яблочки щечки Елизаветы Петровны, прогулка не обещала быть долгой. Стоявшие на почтительном отдалении в конце каждой аллеи преображенцы волей-неволей нарушали устав, не могли стоять не шелохнувшись в присутствии ее императорского величества и время от времени постукивали ногой об ногу, осторожно поглядывая через заиндевевшие ресницы на неторопливо прогуливающихся по парку людей.
– Что-то нынче веселья мало в Петербурге, – ни к кому конкретно не обращаясь, проговорила императрица. – Вот, помнится, во времена оные, при батюшке моем, умели веселиться, а сейчас… – И она со вздохом взмахнула ручкой в теплой вязаной перчатке.
– И не скажи, матушка, – тут же поддакнула ей Марфа Егоровна, славившаяся умением поддержать любой разговор, даже если то была вовсе незнакомая ей тема, – не тот народец нынче пошел. Вот и супруг мой, Петр Иванович, об этом же говорит…
– Чем он у тебя таким занят, что во дворец редко показывается? – не дослушав подругу, спросила императрица.
– Известно чем… Из пушек своих в загородном имении, поди, по воробьям палит без толку, – мягким малоросским говорком, растягивая окончания слов, отозвался граф Алексей Григорьевич Разумовский.
Императрица тихонько хихикнула, блеснув темно-синими глазами, и бросила искоса взгляд на шуваловскую жену, ожидая, чем та ответит на дерзость графа. Та не заставила себя долго ждать и, собрав губки бантиком, тут же с непомерным для ее малого ростика достоинством выговорила:
– Мы, в отличие от некоторых, песенки петь не обучены. Нам, Шуваловым, не пристало чем иным заниматься, акромя дел государственных, а воинская наука – наипервейшая из всех. Кто ей владеет, тот и на поле бранном себя с наилучшей стороны проявит, сокрушит ворога любого. Из пушек палить тоже с умом надо. А песенки распевать, то большого ума не требуется, – закончила она свое высказывание прямым намеком на хороший голос Разумовского, благодаря чему он в свое время и оказался близ императрицы.
– Эка невидаль, из пушек палить, – нимало не обидевшись, фыркнул граф, даже не повернувшись в сторону семенящей чуть справа от него Марфы Егоровны, – в чем там особый ум нужен? Не знаю, не знаю… Видывал я, как это делается, каждый мужик на то способен. А в песенном пении особый талант нужен, не каждому встречному-поперечному данный.
– Мы тебе не какие-нибудь встречные-поперечные, а Шуваловы! – вспылила Марфа Егоровна. – Род наш, не в пример некоторым, наидревнейший на Руси.
– Это еще как посмотреть, – негромко проговорил Разумовский, не желая вдаваться в болезненную для него тему.
– Ладно вам, петушкам, – мягко улыбнулась императрица, желая заранее предотвратить назревающую ссору между ее компаньонами. – Талант в любом деле нужен, а уж кого к чему Господь наставил, то не нам судить.
– Военное дело наипервейшее завсегда было, – не желала сдаваться Шувалова – Батюшка ваш, Петр Алексеевич, завсегда воинских людей выделял, а шутов для утехи, для забав приискать можно в любой деревне…
– Ум и в шутовском деле надобен. – Разумовский все еще сдерживался, не желая особо обижать подругу своей покровительницы, которую в душе побаивался за ее острый язычок.
– Хватит вам, хватит, – поспешила в очередной раз успокоить спорщиков императрица, – а то ежели я осержусь, то обоим достанется.
– Да я что, матушка, я ничего, – поджала тонкие губки Шувалова и с достоинством поправила теплый капор с высоким верхом, – только мужа своего в обиду никому не дам и не позволю про него непочтительные слова говорить любому человеку. Самому Петру Ивановичу за делами государственными иной раз некогда и голову поднять.
– А я вот дел государственных не особо касаюсь, – проговорил, глядя на разноцветный китайский фонарик, подвешенный к ветке молодой липы, Разумовский, – и без меня умники сыщутся. Мое дело о покое матушки-императрицы думать, чтоб не замучили ее бедную умники те, не зашпыняли.
– Это кто меня замучить вздумал? – свела густые темно-русые брови Елизавета Петровна, принимая грозный вид, но по смеющимся ее глазам было видно, что нынче находится она в наипрекраснейшем расположении духа и с интересом наблюдает за перепалкой своих спутников. – Да я сама любого так отхожу, отпотчую, что и забудет, как звать.
– А взять того же Алешку Бестужева, – поспешила лишний раз ущипнуть нелюбимого ей государственного канцлера Марфа Егоровна, – почитай, каждый божий день к тебе, матушка, является с бумагами разными. То – подпиши, это – почитай, будто кроме его бумаг и дел других у тебя не имеется. Тут я слыхала, будто бы он против французского короля зуб большой имеет, невзлюбил его наш умник. Ха! – показала Шувалова острые ровные зубки. – Король французский, верно, шибко расстроился, испужался Алешку Бестужева. Зато англичан подле себя держит, жалует. Болтают, они, англичане, ему даже пенсию особую назначили. Конечно, они ему по всем статьям милее и пригоже. Может ли государственный человек этакие вольности себе позволять? – выкинула она левую ручку в сторону Разумовского.
– Это вы мне? – спросил тот с достоинством и пожал широкими плечами, покрытыми богатой, поблескивающей на солнце шубой. – А по мне, так все они одинаковы. У нас, в Малороссии, так говаривали: немчуру любить – битому быть, турчанина любить – в полоне быть, а москаля любить – голым ходить. – Он чуть кашлянул и бросил вопрошающий взгляд на императрицу, пытаясь угадать, как она восприняла его не совсем удачную шутку. Но та лишь криво усмехнулась и спросила:
– Интересно, дружок, а чего еще такое у вас, в Малороссии, – она особо выделила именно это слово, – про москалей говорят? Верно, не жалуют?
– Не жалуют, матушка, не буду скрывать, – смущенно признался Разумовский, опустив низко голову, щеки его залил алый румянец, – натерпелись в свое время много и от панов, и от русских людей. А народ, он памятен…
– Э-э-э… Да чего их, хохлов, слушать, – поспешила воспользоваться оплошностью графа Шувалова, – сколь им добра ни делай, а все зазря, память у них короткая. Хохол сам себя лишь до обеда любит.
– Вы сегодня явно намерены оскорбить и унизить меня, – наливаясь неожиданно гневом, приостановился Разумовский, заслоняя своей крупной фигурой дорогу низкорослой Шуваловой.
– И вовсе нет, – ловко прошмыгнула та у него под рукой, – правда, она завсегда глаза режет.
– У каждого человека своя правда. Только я не намерен выслушивать разные дерзости от вздорной бабы.
– Это я-то вздорная баба! – чуть не подпрыгнула на месте Шувалова, воинственно вздергивая остренький подбородок – Не вздорнее других.
– Тихо, тихо, соколики, – подняла примиряюще руки императрица, – нашли место, где норов свой выказывать. И чего вас совет не берет? Ближнего своего любить надо, как Господь завещал, а вы…
– Я со всеми готов в мире жить, если чести и достоинства моего не касаются, – обиженно поджал полные, сочные губы граф.
– Нужно мне твое достоинство, – негромко, но отчетливо прошипела Шувалова, не глядя на Разумовского, – прости меня, матушка, коль что не так. Пойду я, меня свои санки у ворот поджидают, – она быстро поклонилась императрице и, не дождавшись ее ответа, засеменила по аллейке в сторону выхода.
– Сдерживайся, Алешенька, прошу тебя, – тихо проговорила Елизавета Петровна, беря графа под руку и увлекая за собой, – особенно с Марфушей. Вы оба мне дороги, любимы и различать вас не желаю, более близких людей у меня нет.
– Виноват, матушка, – низко наклонил тот большую красивую голову, – не вели казнить…
– Да кто тебя казнить собирается? – засмеялась императрица, моментально преображаясь и хорошея. – Хватит на сегодня, погуляли, и будет. Надобно ехать к сановникам моим дела делать. Со мной на совет отправишься или как? – Она внимательно посмотрела в глаза своему любимцу, хотя заранее знала, откажется присутствовать на заседании верховного совета, где собирались главные ее помощники.
– Нет уж, уволь, матушка, – решительно возразил тот, – меня твои верховники и в грош не ставят, насмешничают. Поеду к себе. Там меня земляки с вечера дожидаются, нужен им зачем-то.
– Твое дело, Алешенька, – капризно скривила губы императрица, – прощай покудова, вечером свидимся?
– Пренепременно, матушка, – поднес ее ручку к губам Алексей Григорьевич.
– Значит до вечера, дружок? – легонько потрепала его по щекам государыня.
– К вечеру у тебя буду, жди.
– А коль не утерплю, то сама к тебе заявлюсь. Не прогонишь? – игриво спросила она и, резко повернувшись, пошла по заснеженной аллее, гордо неся свою статную фигуру.
Разумовский долго смотрел ей вслед, незаметно для самого себя улыбаясь и чувствуя, как горячая волна пробежала внутри, делая его самым счастливым человеком на свете. Потом зачерпнул голой ладонью горсть пушистого снега и приложил ее к разгоряченной голове, отер лоб, щеки и широко перекрестился, привычно ища глазами высокий шпиль Петропавловской крепости с золоченым крестом наверху.
Глава 8
А императрица через короткий срок уже поспешно входила в свои покои, веселая и возбужденная, кивая на ходу застывшим при ее появлении статс-дамам, офицерам гвардии, берущим «на караул», и без задержки впорхнула в приемную перед своим кабинетом, где ее уже поджидали прохаживающиеся взад-вперед сановники.
– Заждались, поди? – игриво спросила и провела мокрой от снега перчаткой по бледной щеке вице-канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, что с видимым усилием поднимался с низкого кресла. – Да уж сиди, – махнула ему ручкой, – не усердствуй.
– Как можно, матушка, – проговорил тот довольно бодрым голосом, – и со смертного одра при вашем появлении встану. – И добавил уже ей вслед. – Рады, что вы в добром здравии.
– И я рада, – ответила она, уже входя в дверь кабинета, скинула на руки камер-лакею мокрую от растаявшего снега шубу, прошла к зеркалу у дальней стены и быстро провела по взлохматившимся льняным волосам, кивнула секретарю – «зови» и повернулась лицом к входящим по одному сановникам.
Первым, осторожно ступая на пораженные подагрой негнущиеся ноги, вошел граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Ему было далеко за пятьдесят, и, судя по всему, многочисленные болезни давно подтачивали его здоровье, но при всем том честолюбивая натура не позволяла графу удалиться от дел на покой в какое-нибудь дальнее имение. Гнев императрицы, приказавшей сослать за длинный язык в Сибирь жену его родного брата, коснулся и канцлера, но лишь слегка опалил, не сжег дотла, как то могло случиться с иным. Бестужев стойко выдержал удар судьбы и, словно ничего не случилось, продолжал появляться в приемной императрицы в обусловленный час с точностью небесного светила. Более всего он гордился тем, что за всю жизнь ни разу никуда не опоздал, умел с честью выходить из любого, самого затруднительного положения, и сплетен о нем в Петербурге ходило больше, чем обо всех вместе взятых его друзьях и недругах. Кого-кого, а недоброжелателей он сумел нажить немало, но ни одного не ставил и в грош и в удобный момент спешил отплатить им той же монетой. Не дожидаясь приглашения, он выбрал место в центре большого овального стола орехового дерева и, покряхтывая, опустился в малинового бархата кресло.
Следом вошел Петр Иванович Шувалов, надувая и без того упругие щеки, зорко поглядывая большими, широко посаженными глазами по всем углам, словно там мог притаиться заговорщик с палашом. Под мышкой он нес большой рулон бумаги, осторожно придерживая его, как драгоценную ношу. Граф Разумовский был отчасти прав, предполагая, что Шувалов большую часть времени занимается пальбой из пушек. Именно сейчас Петр Иванович опробовал изобретенную им новую пушку, названную весьма грозно – «единорогом». Испытания шли успешно, а потому граф пребывал в благодушном расположении духа и негромко мурлыкал себе под нос какую-то незамысловатую мелодию, услышанную им от уличного музыканта. Подойдя к столу, демонстративно обошел его весь кругом, остановился напротив графа Бестужева, прислонил принесенный рулон к креслу, затем неторопливо вынул из бокового кармана огромный платок вишневого цвета с каймой и протяжно высморкался в него, спрятал обратно и не спеша сел. Потом, словно вспомнив о чем-то, полез в другой карман и вынул золотую инкрустированную моржовым клыком табакерку и небрежно положил ее рядом с собой, широко улыбнулся глядевшей на него с лукавой усмешкой императрице и сделал ей обычный комплимент:
– Ваше величество, как всегда, замечательно выглядит. Когда вы только успеваете время найти на все дела? Диву даюсь, на вас глядючи…
Говорил он чистейшей воды неправду, поскольку как раз времени на все у императрицы и не хватало. Большинство государственных наиважнейших дел задерживались именно по вине Елизаветы Петровны, которая желала поспеть везде, но на все ее не хватало, и когда приходилось выбирать между просмотром бумаг и очередным балом или маскарадом, то она выбирала обычно последнее. Но все приближенные к ней люди считали за лучшее не замечать подобных пустяков, чего никак не могли понять иностранные дипломаты и частенько в своих письмах жаловались на громадные задержки и волокиту в делах. Но императрица с детской непосредственностью считала, что жизнь человеческая коротка и тратить ее надо весело и безоглядно.
Рядом с Шуваловым осторожно опустился в кресло легковесный и подвижный, словно ртуть, Михаил Илларионович Воронцов, занимавший прежде, до известного дела Лестока, пост вице-канцлера. Но затем, во многом благодаря стараниям Бестужева-Рюмина, был смещен и отошел в тень. К чести его, не только не затаил обиды на нынешнего канцлера, но нередко вставал на его сторону, защищая его от горячих выпадов Петра Ивановича Шувалова, для которых любое бестужевское слово словно чихотная трава вызывала взрыв неприязни. Многие, зная добрый нрав и безотказность Воронцова, обращались к нему, хлопоча о наследстве или назначении на должность. Он один из первых подтолкнул императрицу к занятию батюшкиного престола и неизменно пользовался ее расположением. Да и женой его являлась двоюродная сестра императрицы, урожденная графиня Анна Карловна Скваронская, дочь Карла Самуиловича Скваронского, брата Екатерины I, что также давало ему значительные преимущества среди прочих сановников. Многочисленные родственники и друзья давно намекали графу о своем желании видеть его предводителем собственной партии, но природная скромность не позволяла тому решиться на подобный шаг. Из числа присутствующих на нынешней «конференции», как сама императрица нарекла подобные совещания, он единственный мог похвастаться тем, что ни разу в жизни не получил ни малейшей взятки или иного подаяния. В свое время германский император Карл VII за особые заслуги даровал Воронцовым графский титул Римской империи, и уже одно это выделяло Михаила Илларионовича из числа прочих близких к императрице людей. Последним занял свое место князь Никита Юрьевич Трубецкой, исполняющий должность генерал-прокурора Российской империи. Через свою жену, урожденную Анну Львовну Нарышкину, он состоял в родстве с царской фамилией, а через сестер – с родом князей Черкасских и Салтыковых. В свое время Никита Юрьевич не поладил с графом Минихом, не побоявшись влияния того при дворе. После того как бывший фельдмаршал попал в сибирскую ссылку, его почти открытая неприязнь перешла к другу последнего, Бестужеву-Рюмину, чего он практически не скрывал. Должность генерал-прокурора давала ему множество прав, кроме одного – приобретать друзей, чему, впрочем, способствовал и его желчный, язвительный характер. Единственный человек, с кем он поддерживал приятельские отношения, оставался долгие годы князь Яков Петрович Шаховской, о чьей прямоте и непорочной службе по столице ходили легенды. Но он оставался редким исключением среди сотен подобных.