
Полная версия
Хазарские сны
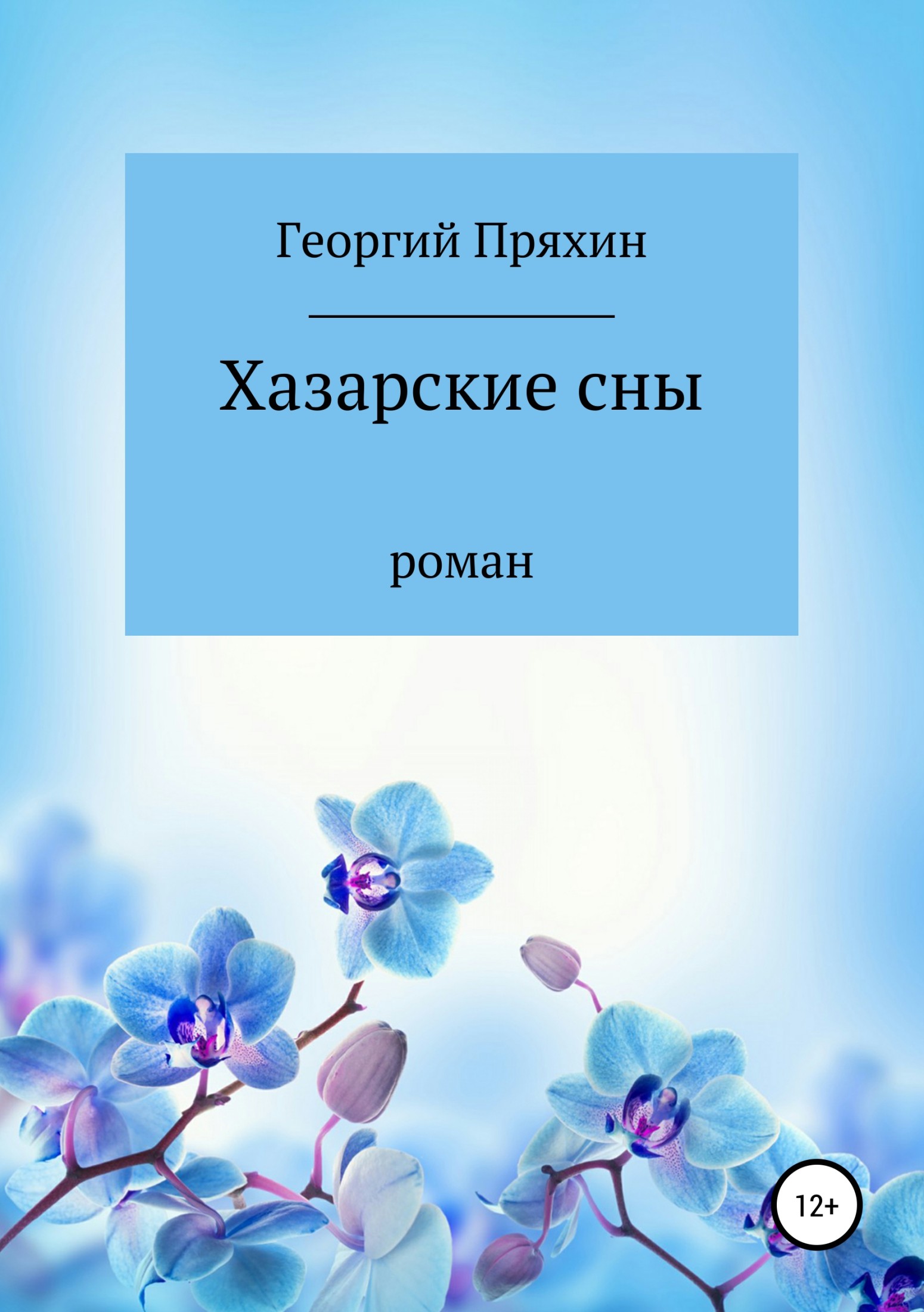
ХАЗАРСКИЕ СНЫ
ГЛАВА I
ПУТЕМ КАГАНА
Когда-то в Пицунде ненастным осенним днем, шагая вдоль опустевшего песчаного пляжа, изрытого, развороченного людскими следами так, словно толпа отдыхающих, осаждавшая его и колеблющееся рядом море на протяжении почти что полугода, в одночасье бежала отсюда, как от пожара, прихватив с собой и разноцветные фантики тентов, палаток и прочую летнюю мишуру, а кое-что и растеряв – в панике, лоскутами, на ходу, – Сергей наблюдал, как близко-близко летят над штормящей бездной – наверное, в сторону Анатолийских берегов – дикие утки. Летом они, видимо, вволю попаслись на далеких отсюда русских заливных лугах и теперь даже на вид, почти как на ощупь, были тяжеленькие, увесистые, словно кургузые свинцовые пульки. Летели не клином, а строчкой во главе с самой крупнокалиберной пулей – селезнем, чья изощренно инкрустированная головка драгоценно вспыхивала, озарялась на миг изумрудным нимбом, когда в обрывках туч проглядывало ноябрьское солнце.
Тучи бежали, сталкивались, налезали друг на дружку, а солнце стояло себе на месте – две драгоценности синхронно взблескивали над морем: чье-то золотое кованое дно и крошечный, как в обручальном колечке, многоцветный камешек.
Волны в свою очередь повторяли массовое бегство облаков. Сбежали люди, теперь от этих берегов убегала вода. Море изрыто, исковеркано, словно и на нем кто-то гигантский, но невидимый оставлял поминутно кровоточащие панические следы.
И над всей этой сумятицей только одна четкая, строгая, прямо в незримую десятку, наборная нить. Очередь – двадцать пять удлиненных и часто-часто, абсолютно в такт моргающих глаз. Во главе с многоцветно-зеленым.
Утки стлались над самым морем – видимо, так, на предельных параметрах, им легче преодолевать силу встречного ветра. Колобродящее пенное крошево подчас доставало их, накрывало холодным своим кружевом, и утки навылет пробивали его, являясь взору вновь и вновь, молчаливо и целеустремленно – нить теплящегося сознания в жестоком разгуле стихии. Хаоса.
Ветер, оглушая, рвал капюшон, Сергей и сам уже давно стоял весь с головы до пят в брызгах, как ржавая морская посудина в бесчисленных заклёпках, но, словно завороженный, не сходил с места. Неукротимая утиная тяга над бушующим морем странно волновала его, увязшего в песке на берегу и обдаваемого попеременно то залпом соленой шрапнели, то отстающей от нее ударной звуковой волной.
Мир бурно пересоздавался, искал размер нового совокупного бытия, а Сергей – выпадал. Неподъемный, нелетный и уныло-немятежный. Грустно быть созданным раз и навсегда: тебя слепили (наспех) и выставили вон. Лучше быть глиной, что всегда под божественной рукой, чем конечным продуктом – горшком…
* * *
Но на сей раз он сполна ощущает все, что ощущали, осязали выпуклыми бонбоньерками своих хорошо начиненных нагульным жирком и салом пузичек те давние перелетные утицы, слитно перемещавшиеся из одна тысяча девятьсот семьдесят девятого куда-то в двухтысячные.
…Несутся на импортном катере. Катерок небольшой, чуть больше обычной моторной лодки, плавных утиных форм и весь как бы цельнолитой из какой-то сверхпрочной и сверхлегкой пластмассы. Металлопластик? Их на катере шестеро. Четверо расположились на корме. Сюда, вперед, оттуда временами доносятся обрывки разговора – встречный ветер сносит их, и они вьются где-то сзади, вплетаясь живой человеческой пряжей в шипящий, клокочущий бурунный след, оставляемый катером. По взрыву смеха, пробившемуся сквозь тугой встречный напор, догадываешься: там, на корме, кто-то только что удачно пошутил. Шутка скользнула по пластмассе и – смылась, ушла белорыбицей в бурунный след, а вот смех оказался долговечнее и напористее: ласково потрогал ухо.
Там, на корме, выпивают. Дорога у них дальняя, более трех часов, народ собрался объемный и бывалый, поэтому выпивка разгорается не накоротке, а с потягом, неторопливым санным раскатом: лица зардеваются вполне умеренно, а паузы между взрывами смеха идут абсолютно равномерно вплоть до самого места назначения. Сергей, опершись на локти, лежит на носу катера, в общем разговоре участвуют лишь его босые пятки, но одну руку со стаканом протягивает, не глядя, назад весьма регулярно, и кто-то невидимый, но неизменно щедрый, плещет ему туда виски. Мерки этой Сергею хватает на несколько пауз, поскольку народ на корме пьет в компании и в основном водку, залпом, он же выпивает почти в одиночестве, потихонечку: шагом, братцы, шагом до города Чикаго… Разговор на корме, судя по всему, приятный: пятки участвуют в нем охотно и иногда, под щекоткой попутного – для них – ветра, болтаются сами собой. То есть, заговариваются.
Катер ведет Наджиб. Ну да, обыкновенный Наджиб. Когда знакомились, Сергей чуть не переспросил:
– А может, Наджибулла?
Но воздержался. У русских начальников и у русских богатых людей, что сегодня почти одно и то же, появилась мода: заводить себе клевретов среди нацменов. Уже поманенечку опасаются собственного, единокровного народа? А может, и не так. Клевреты, как правило, богаче самих богдыханов – скрытно, подспудно. И, так сказать, обеспечивают им комфорт там, где обставить его официальным путем не с руки: ну, скажем, нету изумительно быстроходного импортного катера у администрации Волгоградской области – где же его взять?
Понятно, где: у Наджиба – вместе с Наджибом.
Состоятельных русских на каждого русского (новорусского) начальника сегодня просто не сыскать. В ход идут нерусские.
Наджиб. Лет сорока пяти. Изжелта-бледное, широкое, непроницаемо красивое лицо, осязаемо бархатистые глаза, за которыми, как и за общей привлекательностью черт, тоже ничего не видно. Вьющаяся восточная проседь. Июнь, а он уже подзагорел. В плавках. На животе шрам и, вроде, не на той стороне, где бывает аппендицит. Коренаст, костляв. Губы узкие, лиловатые, как у серны – никаких следов подневольного труда. Исключительно вольный. Командный?
Если в теплой компании «на камбузе» Серегу полномочно и всеобъемлюще представляют его пятки, то здесь, в зоне управления, Наджиб тоже в известном смысле является полномочной загорелой пяткой – того, кто по-хозяйски щедро разливает по стаканам там, на корме. (И разливает, не исключено, припасенное самим Наджибом). И потому, получая слабо курчавящимся затылком сигнальное излучение хозяина, тоже считает необходимым мал-мал занимать гостя. Одного из гостей – видно, не очень компанейского, раз отворотился от кают-компании – оказавшегося в тесном соседстве с ним.
Вежливость их взаимна. Сергей молчит ровно столько, сколько приличествует молчать в обществе чужого человека, труждающегося тебе во благо. Наджиб в свою очередь, попадая в настроение гостя, расходует слова, словно им предстоит даже не три часа ходу, а кругосветное плавание. Похоже, ему жалко расставаться с русскими словами, накопленными, скопидомленными за годы жизни на чужбине, что оказалась, правда, к нему, чужому, куда тароватее, чем ко многим, многим своим.
– Катер у вас замечательный, – роняет из вежливости Сергей.
– Купил в Дубае, – отвечает, обогнув предварительно самоходную баржу, Наджиб. И добавляет еще метров через пятьдесят:
– За сорок пять тысяч.
Каких тысяч, какой породы и какого цвета, не поясняет – и так ясно. Зато еще метров через сто проговаривает:
– Самолетом привез.
Сергей восхищенно задирает бровь – ту, которая ближе к Наджибу: ясно ведь, что тонюсенькая нотка горделивости относится не только к скутеру, но и к способу его доставки из-за тридевяти земель. По воздуху – это еще круче, ежели бы собственным ходом.
Даже если б Сергей и не знал, что скутер является единоличной собственностью Наджиба, а не областной администрации или, скажем, вице-губернатора Антона Петровича, он бы давно догадался об этом – без всяких ответных слов. По одной повадке Наджиба за рулем, по ласковой небрежности, с каковой его небольшая, нежадная и короткопалая ладонь, проросшая с тылу редкими, но твердыми черными волосами, покоится на штурвале.
С каковой придерживают во сне за обнаженную, вытаявшую из совместного, согласного сна проталину законную супругу.
Но Сергей уже знал. Антон Петрович, призванный в вице-губернаторство из бизнеса (участвуя в выборных кампаниях на стороне тех или иных кандидатов, бизнес затем для верности, чтоб лишних искушений не было, еще и приставляет к «победителям» по тертому Савельичу) и еще сохраняющий в себе каленый винный цвет, шалавую силу и даже литую округлость только что вылетевшего из жерла чугунного ядра, накануне названивал Наджибу по мобильнику и давал вежливые указания. Потом они, опять же всей честной компанией, ждали Наджиба на каком-то пришвартованном к берегу полугрузовом теплоходике и, когда тот, уже в плавках и на вот этом летучем голландце («дубайце»?), резко контрастировавшем с их кастрюлей (вот она-то наверняка является собственностью управления делами!) подлетел, оставляя за собою шампанский инверсионный след, вплотную к ржавому борту ветерана обкомовских пикников, – тут-то Сергей ненароком и подумал: а не выдвиженец ли Антон Петрович именно этих, почти эфирных сил?
А не каких-то там земноводных, подземных лукойлов…
И загар на них подозрительно похожий, не июньский, не русский – на Наджибе и Антон Петровиче. Совместно-дубайский.
Скутер тяжеленький, как и нагулявшая жиру осенняя утица – с таким-то увесистым выводком на борту! И основной его вес сосредоточен на корме – тоже как у раскормленной птицы, которую и щупать-то, тискать, определяя на вес и яйценосность, начинают именно сзади, с «курдюка», а не спереди. Груз этот дает катеру основательную осадку, он сидит в реке, как граненый, вбитый по самую шляпку стакан в волосатой мужицкой лапе – стеклянным утопленником. Но и двигатель, расположенный, заточённый тоже где-то на корме, как зверь в клетке, дик и чудовищно силён. И, сам в исступлении зарываясь в бурлящую речную глубину, как в собственную дурную пену, яростно содрогаясь всеми восставшими мускулами и передавая почти на молекулярном уровне это свое живое, страстное и мучительное содрогание даже холодной, мертвенной химии металлопластика, грозно выдирает, выталкивает утопленника вон. На поверхность – у того даже нос задирается кверху, с размаху, ритмично, словно отбивая такт, шлепая, как блином о сковороду, об тугую и серую, твердую, словно ей еще спеть и спеть, волжскую воду. Сергея с Наджибом – тоже немаленького веса – не хватает, чтоб уравновесить скопившуюся на корме спаренную мощь: тяжести и силы. Неподъемности и отчаяния.
Наджиб сидит прямо, даже прямолинейно, как статист в «Девочке на шаре». Сергей же, растянувшийся даже не на боковой полке, а прямо поверху, по обшивке, по причине этого несоответствия, неравновесия – будто вставлен в тетиву и тоже задран. Приготовлен к пуску. И даже, со свистом и гиком, пущен куда-то поверх горизонта. Поэтому все, включая Наджиба, плывут, Сергей же летит. И когда катер все же задирает, как рубанком, наворачивая вокруг себя рунные горы ослепительной стружки, носом своим речную воду, у Сергея впечатление, что это его с размаху физиономией об стол.
Чтоб не шкодил?
Катер имеет красиво выгнутое ветровое стекло, как у пилотов первых летающих «этажерок», чья скорость в небесах, конечно же, была несоизмерима с бешенством, с которым несутся они сейчас по Волге-матушке. И когда он на миг зарывается носом в нежный пах текущей попутно ему реки, именно стекло принимает на себя первый, молодой и упругий фонтан брызг, которые скатываются потом с него ослепительными слезами счастья. Вместе с тем и ближним седокам, особенно Наджибу, достается: жесткая проседь у афганца в алмазной пыли, он не стряхивает ее, и невесомо-чудесная влажная ноша как бы заставляет его отбрасывать, запрокидывать крупную, округло-крутую голову свою назад, и эта несущаяся над волжскими просторами компактная, в мгновенных искристых излучениях, иноземная корона – тоже как летучая, совершенно нестойкая и, тем не менее – подкоркой, на миг, на обрывок бреда – узнаваемая, угадываемая из-под прикрытых ресниц реминесценция из бог знает каких времен.
Сергей лежит, голова его ниже, чем у Наджиба, опущена в ладони, но и на его долю всякий раз приходится порядочный крупитчатый сноп, сквозь который проносятся они, оставляя последки его, остаточный, уже осколочный его звездопад тем, на корме, где властвует Антон Петрович: остудить и облагородить водку в стаканах.
Сергей действительно жмурится, и сноп сразу же расцветает: розовым, синим, зеленым. Дрожит, оседая северным сиянием, нежным павлиньим хвостом.
Два селезня, два изумруда над русской – пока еще – водой: туда и обратно.
Но сегодня и сам он летит, не застрял, не увяз на берегу, летит, ощущая на невидимых своих водонепроницаемых крыльях нежный нагар мельчайшей водяной, волжской (главная дорога России) пыли.
Как изморозь в паху.
* * *
Да, плывут вниз по Волге, в Астраханскую область, но Сергею кажется, что река сама несется, обнимая их, как долгожданных детей, им навстречу. И он распластан над нею – тяжело, не по-стрекозьи, как летают существа, совершенно неприспособленные к полету, коровы, например, но фатально и неукротимо, со странно холодными и пресными слезами на губах. Летит, уже срезая с реки гудящими крыльями ее мутноватую накипь, вопреки тетиве и взлетному своему положению – куда-то внутрь. Не по горизонтали, а по косой, наклонной: внутрь этой несущейся навстречу материнской, литой, слитной жизни. Не к устью, а к верховьям. Теряя в объятьях скорости и реки собственный вес, сублимируясь до чего-то, лишь отдаленно сродственного самому себе.
Словно тело его уже растворилось и, выпорхнувшая, ослепительно сытая солнцем, косо, петляя, неверным маршрутом бабочки-первоцвета уже полетела – впереди него самого. Зажмуривает глаза и видит ее, собственную и уже почти чужую, нежно, как и положено душе, проявляющуюся в негативе июньского речного полдня, где все блестит и существует в слепяще разъятом, осколочном виде.
Тела действительно не чувствует, но в остальном легкости нет.
Не поймет, зачем здесь оказался.
Во всей этой поездке есть изначальный порок необязательности.
Десять лет впряжен в хомут. Вернулся в положение Савраски, из которого, казалось когда-то, вышел раз и навсегда. Порвал, казалось, с миром тягла и сбруи, в котором и родился некогда, вывелся и который существовал, прел под ним на много-много колен вглубь: так семечко кабачка сажают на вершине тучной навозной кучи, роскошной, полной внутреннего, нутряного тепла и гниения ромовой бабы – и она, тужась, продолжает – огоньком, фитильком, опущенным в склянку с ворванью – свое тлетворное дело. Десять лет следует по строго предписанным – хворосту воз – надобностям. Не то что поездки (они-то в первую очередь!) – сами дни его подчинены высмыкиванию, выскабливанью, подчас с совершенно каменистых пустошей, пользы.
А тут никакого видимого смысла. Полет. Парение. Полное отсутствие грузила.
Совершенно необязателен здесь – в том числе и на этом невесть куда несущемся катере. Его пригласили за компанию. Пригласил банкир, чеченец, возлежащий сейчас на корме. Лет на десять моложе Сергея, чуть пониже него, но весь исполненный тяжелой свинцовой стати, которой вообще отличается этот народ. В какой-то этнографической книге Сергей прочитал, что чеченцы – самая красивая нация в Европе. Прочитав, удивился. Не тому, что книга написана не чеченцем, а явной географической неточности. Какая уж тут Европа! – поменяйте Наджиба и банкира местами – и разницы не почувствуете. За штурвалом как был так и останется Восток. Катер только глубже врежется в воду. Как лемех. Рука у банкира будет потяжелее наджибовой, хоть и держит он едва ли не сызмальства одну авторучку – даже не автомат.
У банкира уже в наличии объемный, как закром, туго подпоясанный мужским махровым кушаком, живот. И торчал бы он точно так, как и Серегин, почти безволосый, выпинающийся кругло и безобразно, будто у муравья, болеющего рахитом, если б не могучая грудь. Высокая, тоже волосатая, с мощной двуглавой мышцей, она нивелирует живот, составляя с ним единое респектабельное целое. Сейчас, нагишом, еще видно, что они существуют отдельно друг от друга – твердая, щитообразная грудь и крутая, пасхальная выпечка живота, а вот облачится его друг в один из своих дорогих, уже как бы не из овечьей шерсти, а из самого нежного и теплого овечьего дыхания спряженных костюмов – и они действительно составят одно слитное, покойное, в меру чревоугодное целое.
Если у Сергея волдырь, то у банкира и впрямь трудовая мозоль. Крепкая, кожистая, трудящаяся.
Чеченцы породисты. Сергей в юности служил с ними в армии и тогда еще заметил их статность, чистоплотность, прирожденную способность к военной жизни, к обхождению с оружием. Древность ли самого народа сказывается в его походке и выправке, или это результат пережитых им пертурбаций, того неоднократного и жестокого естественного отбора (если его можно назвать естественным, то что же тогда противоестественно?), которому был он подвергнут на протяжении нескольких последних веков?
Ни один народ на территории бывшего СССР не дает сейчас такого прироста, такой рождаемости, как чеченцы. По некоторым сведениям, рождаемость у них поднялась в семь раз: то есть сегодня против русских воюют не мужчины – против них, увы, успешнее воюют женщины. В двух ипостасях: и шахидок, и рожениц. Народ преображается, когда стоит на кону?
Хотя всему, наверное, есть пределы. Русских так долго и зловеще держали и держат на кону, что нация почти выветрилась. Выдохлась. Кураж имеют только доморощенные бандитики – и те чаще всего над своими же, безответными. Народный дух приобрел отчетливую горечь перегара. Похоже, с уменьшением размеров страны изменился и масштаб ее мужчин, причем и в самом прямом смысле. А если где и заметишь в толпе могучую мужскую спину, не торопись забегать ей наперед, заглядывать в глаза – скорее всего увидишь тусклый болотный огонек, а не разудалый русский простор, который ожидал увидать…
Пригласили его из дружбы, к тому же какому ж банкиру, особенно чеченцу, не потрафит, если в сопровождении у него окажется вчерашний партократ, а ныне совершенно свободный и в меру безденежный русский писатель? Губернатор Волгоградской области, к которому они заезжали по делам накануне и с которым у банкира есть свои взаимные интересы, знает Сергея – и их знакомство и даже некоторое расположение друг к другу также оказалось кстати во время утренних переговоров, в ходе которых каждый из них, и губернатор, и банкир, оба себе на уме, лишь показывали друг другу, как партнеры по подкидному, краешек карты (знаете, как в тюрьме рассказывают анекдоты? «Анекдот номер такой-то!» – восклицает рассказчик, и публика уже хохочет, зная всю «колоду» наперечет) – так, в качестве приятного младшего козыря был дружески продемонстрирован и Сергей.
Отказываться от приглашения Сергей не стал – на то есть свои причины.
Банкир в свое время крепко выручил его издательство, закупив у них пятьдесят тысяч книг, в том числе и книгу самого Сергея – книжки затем были отправлены на Северный Кавказ, в библиотеки и школы. И первую партию они вместе привезли в Серегин родной Буденновск. Прилетели самолетом, который заказал и оплатил Муса, сели на военный аэродром. Господи, если бы кто-то в детстве сказал Сергею, что неподалеку от их интерната возникнет военный аэродром с самолетами, похожими на долгоносиков, прячущимися в крытых дерном бетонных погребах, и что в самом интернате какое-то время будет располагаться штаб действующей военной бригады, и что их тихий, заспанный, казалось, навечно тыловой Буденновск станет прифронтовым городом?!.
На это не хватило фантазии ни у кого, кроме как у самой жизни.
Впрочем, как это тыловой? Городок так часто менял названия, в том числе и на Серегиной памяти, как будто только и делал, что переходил из рук в руки. Маджар – Кара-Багла – Святой Крест – Буденновск – Прикумск и опять – Буденновск… Какое следующее? – Освенцим?.. Нью-Атлантида?..
Какие-то намеки жизнь все же, наверное, делала. Военный аэродром находится за соленым озером, справа от него, если смотреть со стороны города. Сергей когда-то работал здесь, в райцентре, в районной газете, изъездил район вдоль и поперек. Поселочку, волею судеб оказавшемуся сейчас рядом с аэродромом (здесь жили когда-то дальние Серегины родичи, мать однажды мальчиком завезла его сюда на ночлег, и Сергей запомнил, что у одного из них, молодого крепкого парня, была деревянная рука, другой рукой парень сгибал ее в локте, потом резко отпускал, и рука выхлестывала, распрямлялась как живая – «вот так я и дерусь», – сообщил парень Сергею на ухо, хотя вид у самого был вовсе не драчливым, а скорее проказливым), так вот, поселочек этот еще в тридцатых получил наименование «Чкалов» – когда на сотни верст вокруг не было ни одного аэроплана.
Колхоз же, в который он входит и на отчужденных землях которого и располагается сейчас военный аэродром, именовался «Новая жизнь». Теперь они, наконец, воистину воссоединились: Чкалов, самолеты и новая, совершенно новая жизнь, временами ужасно похожая на смерть.
Прилетели 1 Мая. В качестве почетных гостей участвовали в демонстрации трудящихся. Банкир, приветствующий с деревянной трибуны нестройное шествие полубезработных трудящихся – любопытно, ничего не скажешь. Вручали книги в переполненном актовом зале – Муса остался внизу, в партере, Сергей же поднялся на сцену. Поехали в больницу – Муса выделил деньги на антибиотики третьего поколения, и Сергей поразился, когда понял: вот эта картонная коробочка, которую они передавали, как грудничка, с рук на руки, главврачу, что своею южной моложавой дородностью и белизною облачения напоминала лакомо вылизанную кем-то сахарную статую женского пола, как раз и стоит, оказывается, три тысячи баксов.
Их, тоже облаченных в хрустящие от крахмала халаты, водили по палатам – антибиотики, кстати говоря, предназначались в первую очередь для рожениц. Сергей сумел отделиться от громоздкой процессии и заскочить в нейрохирургию, где лежал родственник его младшего брата: они все втроем учились когда-то в интернате. По пьянке заполучил ушиб мозга, и ему сделали операцию – накануне Сергея как раз и просили спроворить сюда, в больницу, «звонок из Москвы». Вполне осмысленно, хоть и наскоро, побеседовали с ним, а когда стал прощаться, успешно прооперированный бригадир винодельческого совхоза попросил передать привет «Сережке из Москвы». Серега переглянулся с его женой, бригадиршей, бессонно и безучастно (статуя в положении сидя) застывшей у изголовья кровати.
– Он спутал тебя с твоим братом, – шепнула статуя, в которой в другой обстановке сам Сергей никогда не узнал бы востроносую и востроглазую, а главное – тоненькую и даже на глаз совершенно не каменную блондинку, которую видел последний раз лет тридцать назад.
Берут глыбу и делают, вытесывают – девочку. Жизнь же – это скульптор-модернист: берет девочку и, как навозный жук, наматывает, навивает – глыбу.
Сергей поперхнулся и понятливо выпятился вон.
Облако в штанах – это если бы главврач был мужчиной. Русским.
Муса же проходил по больничным коридорам даже не как главглавврач, а как папский викарий во время мессы.
Побывали у всех скорбных мест, оставленных городу августом девяносто пятого. У памятника военнослужащим вертолетного полка, спешившим на помощь горожанам и расстрелянным прямо в легковой машине. У памятника погибшим милиционерам. Само недавно построенное здание милиции дало усадку, лопнуло, и его стянули металлическими швеллерами. Муса вроде бы и глаз наверх, на кирпичное здание, возле которого и установлен памятник, не поднимал, а тем не менее, глядя себе под ноги, на цветы, которые они с Сергеем только что и положили на полированный мрамор, проговорил – одному Сергею, словно он у него, банкира, и есть главный казначей:
– Денег на ремонт дать надо....
Их сопровождало много народу: и городские власти, и просто празднолюбопытствующие. И Сергей старался тулиться поближе к Мусе: все-таки это он, Сергей, завлек этого важного чеченца в свой родной город, распятый чеченцами же в девяносто пятом, и теперь как бы в ответе за него. Неровен час – не случилось бы чего. Муса прилетел сюда без телохранителей, которыми обсыпан сейчас, как сдобная булка маком, любой мало-мальски денежный человек, и Сергей, конечно, не настолько ребячлив, чтоб изображать из себя его персонального Кэвина Костнера. Просто надо быть рядом, чтобы не подумал, что трусит, держится на всякий пожарный на отлете.


