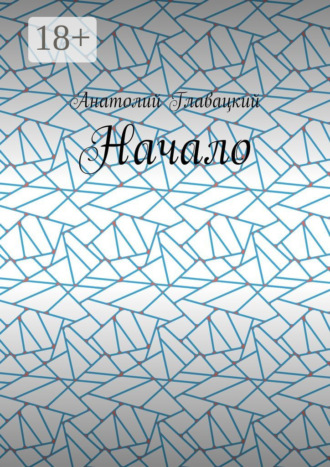
Полная версия
Начало
А налоги? Если у вас на подворье корова – обязаны сдать на молокопункт 240 литров молока жирностью 3,6 процента. А будет недоимка, могут и корову отнять. Если свинья есть – щетину сдай. А ещё золу, вернее, пепел от дров – для удобрения колхозных полей. Я сам носил этот «гумус» к старой конторе, где эта куча долго лежала, раздуваемая ветром, пока не пошёл дождь и её вовсе не размыло. Такая была организация работы…
***
Я упустил ещё один важный эпизод, связанный с мамиными походами в Ананьев… Осенью и зимой на Украине, особенно в Одесской области, начиная со второй половины ноября и дальше – в декабре, январе, феврале и даже в марте, если нет морозов, по ночам, а особенно утром, бывают густые-густые туманы. И при этом они ложатся к земле неровно: в низинах – погуще, на бугорках – пожиже. Бывают красивейшие зрительные аномалии: высокие деревья, каких у нас немало (тополя, например), могут быть перекрыты слоями тумана в двух-трёх уровнях. Верхушка видна, середина ствола в тумане, а у самого основания тумана тоже нет. Получается своего рода трёхслойный «пирог» и возникает ощущение, будто вершина у тополя парит в воздухе.
В одно такое туманное утро мама со своей напарницей по «мыльному бизнесу» возвращались из Ананьева с грузом на спине и на груди. Шли мимо леса, который был слева, а справа – чистое поле. Туман же стоял такой густой, что трудно было временами различить дорогу, по которой они шли. И вдруг напарница обратила внимание на то, что по полю, недалеко от них, вдоль дороги, можно сказать, параллельным курсом, бегут две большие собаки. И когда туман немножко рассеялся, стало ясно видно, как одна прыгает вокруг другой – заигрывает с ней. Вторая же целеустремлённо, слегка огрызаясь, бежит по своему направлению.
Напарница говорит:
– Посмотри, Аня, откуда тут в степи собаки взялись?
До деревни было ещё километров пять.
Мама взглянула и обомлела: она сразу поняла, что это были не собаки, а волки..Мартовские, голодные, худые после зимы… И у них начинался гон – брачные игры…
Мама потом рассказывала:
– У меня волосы под платком зашевелились, как живые, и показалось, что он даже приподнялся над головой. Руки-ноги похолодели и только одна мысль в голове: что же с моими детьми будет? Никаких других мыслей не было – только эта в висок как молоток стучала…
Случилось это в 1942 или 1943 году, в марте. И это были действительно волки – он и она. Волк, по всей видимости, вёл с волчицей брачную игру. Поэтому они и не обратили внимания на двух несчастных женщин, еле плетущихся по раскисшей от грязи дороге. Волки пробежали рядом с ними ещё метров 300 – 400 и, свернув через дорогу, по которой мама с напарницей шли, скрылись в сером, мрачном лесу.
Мама пришла домой вся разбитая, до предела уставшая, не раздеваясь и не снимая ботинок, упала на кровать и горько-горько плакала навзрыд. Никто из нас – ни бабушка, ни сестра, ни я – не могли понять, почему она в таком угнетённом состоянии, пока сама она не рассказала, что с ними произошло… И тогда на семейном совете решили, что мимо леса им надо идти только в дневное время и обязательно иметь с собой металлическую пику или нож на всякий пожарный…
Наверное, ангелы-хранители – мои или моей сестры, или нашей мамы отвели тогда беду, которая могла сделать нас сиротами… Между прочим, я много позже стал замечать, что, попадая в какой-то житейский переплёт, в ситуацию, кажущуюся, на первый взгляд, трагической и даже безысходной, я вдруг выходил из неё совершенно безболезненно, без каких-то потерь для себя. И даже наоборот: выходя из таких, казалось бы, тупиков, набираешься нового житейского опыта, и жизнь опять тебе улыбается и продолжает сиять и светиться всеми цветами радуги. Если у меня хватит сил и настойчивости и я сумею продолжить это своё повествование, описывать свои более зрелые годы, то я, может быть, ещё расскажу и, как говорится, с фактами в руках, что так оно и есть – меня также оберегает мой ангел-хранитель.
Победа пришла. Папа вернулся
В один из тёплых майских дней мама затеяла варить лапшу. Она раскатывала тесто – я это ясно помню. Дело было на улице, в печке на дворе горел огонь, ну и я рядом крутился. Кстати говоря, за сухостоем для этой печки мы с бабушкой ходили за три километра в лес. Я уже в ту пору помощником был…
…Мама раскатывала тесто тонко-тонко, сворачивая его потом в рулончик-трубку, пересыпая мукой, чтобы тесто не слипалось. Так у неё получалась колбаска по ширине раскатанного теста. И она её резала на фанерке острым ножом, отодвигая каждый слой, чтобы готовая лапша не слипалась. Потом она ещё подсыхает и, когда надо, мама её бросает в кипящую воду. По мере готовности лапши обычно жарили лук на каком-нибудь жире, и получалось в итоге очень вкусное варево. А если ещё кружка молока потом будет – будешь сыт и доволен.
И вот мама занимается тестом для лапши, а мимо нашей хаты люди побежали… Мы почти в центре жили. И какая-то женщина кричит нам во двор:
– Аня! Аня! Победа, победа!
Мама сняла фартук, наскоро отёрла им руки, даже мыть не стала, и они с бабушкой побежали в местечко, где собирался народ. И я, конечно, побежал, и сестра… Там уже ораторы, речи – председатель сельсовета выступает, директор школы, начальство и интеллигенция, словом…
Так мы встретили День Победы. Многие женщины плакали – они ещё раньше получили похоронки. Как мамина подруга – напарница по «мыльному бизнесу» тётя Палазя, ставшая после этого молчаливой и замкнутой, и даже с мамой стала реже встречаться…
Мы, напоминаю, за всю войну ни одного письма от папы не получили. Не было и извещения-похоронки или сообщения, что пропал без вести. И когда мы возвращались с этого собрания-митинга, мама тоже плакала – неизвестность её мучила: живой или калека (такие случаи тоже бывали – калеки не возвращались домой, не желая быть обузой близким)? Мама говорила:
– Пусть без рук, без ног, лишь бы живой был. Я бы его прокормила как-нибудь. И дети бы помогли…
А я говорил:
– Мама, не плачь, папа выжий, что означало – он живой. – Он обязательно вернётся.
Я вообще-то уже нормального тогда разговаривал, но говорил именно «выжий»… Ходили к гадалкам, чтобы узнать – что с ним. Помню, я по чьему-то наущению говорил: «Ситычко, крутись!». И уже от себя добавлял: «Папа выжий».
И вот в августе 1945 года вдруг приходит к нам на подворье женщина-почтальонка. Мы за столом сидели, на улице, возле печки; там же, на столе, и посуду всё лето держали под полотенцем.
– Аня, вам письмо!
Мы все подхватились – какое письмо? Если одна бумажка, то похоронка; если треугольник – от папы или его товарищей… Тут же был обыкновенный конверт, а в нём письмо от папы. Писал: «Живой, здоровый, нахожусь в Германии, в американской зоне оккупации». (Всего их, напомню, было четыре – ещё советская, английская и французская. А.Г.). «Работаю при штабе по репарации военнопленных, – писал папа, и это нам было непонятно – что это за слово, что оно означает. – Теперь письма от меня будут приходить регулярно, не переживайте…»
Никогда ещё наша семья не испытывала такой радости.
– Я же говорил, что он выжий! – кричал я.
А от меня отмахивались, как от назойливой мухи, приговаривая при этом:
– Молодец, молодец!
Потом пришло другое письмо и ещё одно. А 28 февраля 1946 года произошло событие, которое я, не всегда помнящий даты рождения собственных детей, никогда не забуду, потому что оно будто впечаталось в меня на всю жизнь… Очень холодно было… Мы с сестрой – на печи, а мама с бабушкой ещё с вечера затеяли парить сахарную свеклу…
Тут я опять волей-неволей вынужден сделать отступление. Мама, как и многие другие женщины, с утра до вечера пластались в колхозе, восстановленном у нас после Победы. Сажали свёклу, другие культуры, пололи их, окучивали, убирали. Работа почти без продыха и, уже писал, практически без оплаты – изнурительная, выматывающая. Но когда созревала свёкла и надо было её копать – это был просто адский труд. Добытые из земли эти большие корнеплоды надо было очистить от земли, обрезать с них ботву и укладывать в кучи. В непогоду их накрывали, но часть свёклы всё равно пропадала, а сохранившуюся отправляли на заготовительные свеклопункты для переработки на сахарных заводах.. И сколько времени убирали свёклу женщины-нормовички (так называли всех тех, кто обязан был выработать определённую норму в колхозе), столько приносили её домой в своих кошёлках (в них умещалось по две-три штуки). Сок свёклы – это было, образно говоря, второе мыло, но об этом чуть позже…
В бригаде женщин-нормовичек было три ланки (звена) по 8 – 9 человек. Мама была ланковой, то есть руководила одной из ланок. И вот – только они начали копать эту свёклу – вечером, как обычно, прихватили по несколько штук каждая домой. Разумеется, начальство знало о таком тайном промысле, но закрывало на это глаза. – надо же людям как-то было жить… Но в этот раз их встретил на жеребце объезчик – человек дурной, недалёкий. Остановил измочаленных непосильной работой баб и потребовал отнести свёклу обратно – «туда, где взяли». Среди нормовичек, кстати, была и его собственная жена – и он не сделал для неё исключения.
Мама же сзади шла и начала разговора не захватила, а когда он повторил своё требование, да ещё угрожать пытался – взорвалась. У неё серп в руках был.
– Если ты, гад, ещё раз нас остановишь, я тебе и коню этим серпом брюхо вспорю. Не смей больше даже подходить к моим женщинам. Они пластаются с утра до ночи, а ты их за две свёклы гнобишь. Она, эта свёкла, наполовину сгниёт в буртах, если вовремя не вывезут, как уже бывало…
Принесённую с колхозных полей свёклу женщины прятали до поры до времени в сарае. А зимой тёрли и парили в больших чугунах. Доставали широкую лавку, ставили её в центр комнаты. Всю эту сваренную массу вываливали в мешок, укладывали на лавку, к которой уже была подвязана широкая доска, и ею давили этот мешок на лавке. И сладкий свекольный сок (он назывался меласа) стекал в стоящую под лавкой лохань (корыто из оцинкованного железа).
Пишу эти строки и невольно поймал себя на мысли: увидела бы эту картину моя дражайшая половина Галина Сергеевна с её неизбывным стремлением к чистоте (даже дорожки с саду подметает!) – так что бы с ней стало?
Но не будем, впрочем, отвлекаться. Полученную меласу давали и нам, детям, как сладкое лакомство, мы макали в неё хлеб и ели. Но главным образом она шла на изготовление всегда востребованного, на все случаи жизни, товара – самогона. Меласу отправляли обратно в казан, подсоединяли самогонный аппарат… И завершающий процесс превращения колхозного корнеплода в свободно конвертируемую валюту пошёл! А мамин самогон, писал уже, был высочайшего класса.
Что поделаешь: люди, обречённые властью на нищенское существование, выживали благодаря своей предприимчивости, сообразительности и даже, можно сказать, как в случае со свёклой, нахальству. Хотя за три свёклы могли дать расхитительнице колхозной, то бишь социалистической, собственности и три, и пять лет срока. Но, как говорится, Бог миловал…
…И вот технологический процесс у мамы в самом разгаре, раннее утро, стук в дверь… В семействе переполох, мы с сестрой тоже проснулись… Кто бы это мог быть в такую рань? Открывать – не открывать, ведь и «орудие преступления», и сырье, вернее, уже полуфабрикат, налицо – не спрячешь….
Мама пошла открывать. Слышим за дверью – шум, стук, грюк, мамино громкое: «Ой!» – и в комнату заходит здоровенный дядька в синей шинели, шапке и сапогах, голова – под потолок.
Бабушка:
– Ой! Филя пришёл! Сыночек мой роднэнький.
Мама же наша всегда была сдержанной – видно, жизнь приучила. Хотя в экстремальных ситуациях (о которых я уже рассказывал) могла так характер проявить…
Сестру быстро одели и послали за пять километров в Гвоздавку за родной сестрой отца, тётей Ниной. И скоро у нас в хате уже дым стоял коромыслом.
Помню, отец взял меня на руки – у него щетина колется, я упираюсь, не был же ещё ни разу на руках у мужика.
– Ну ты хоть знаешь, кто я такой? – спрашивает мой отец. А я и что сказать – не знаю.
Я сразу стал героем среди всех пацанов в округе. Из всех моих ровесников только у меня одного отец с фронта вернулся. У других – или погибли, или по разным причинам не воевали…
О военной одиссее отца я ещё расскажу…
Наши послевоенные игры – детские и недетские
Жизнь моя и моих сверстников в первые послевоенные годы протекала, в основном, на улице. Это были сплошные военные игры, разыгрывались целые сражения – настоящие баталии. В каждом уголке деревни были свои ватаги – вооружённые отряды по семь-восемь пацанов.
В нашем командовали два брата Коваленко – Гарик и Валик (Валерик), сыновья директора местной МТС. На вооружении у нас был даже ручной пулемёт Дегтярёва с диском, полным патронов. Правда, он не стрелял из-за какой-то поломки в затворе. Была снайперская винтовка с оптическим прицелом (действующая), казачья шашка и наша главная гордость – большой морской цейсовский бинокль с десятикратным увеличением; солидный, тяжёлый, чёрного цвета.. Мы его носили по очереди, притом этой чести удостаивался не каждый, а лишь особо заслуженные. Был и второй бинокль, сухопутный, артиллерийский, с семикратным увеличением.
Неподалёку от нашей хаты, в вишняке, я нашёл полный ящик румынских карабинов с примкнутыми плоскими штыками. Они были по сути новенькие, в промасленной бумаге и техническом озеленении. Недалеко от этого места была румынская комендатура и, наверное, румынские солдаты утащили этот ящик, чтобы, как говорится, загнать или обменять. Но события в наших местах, когда немцы отступали, развивались столь стремительно, что румынам стало не до карабинов… Они потом ещё долго лежали у нас под сараем, прикрытые тряпкой. И я с одним, взяв его на плечо, ходил с другими ребятами встречать их коров из стада (у нас тогда своей ещё не было). Штык карабина торчал у меня над головой, а приклад бил по моим пяткам – так что приходилось его всё время придерживать: я ведь предпочитал передвигаться перебежками…
За три километра от деревни был лиственный лес, в котором отступавшие немцы впопыхах побросали различную технику – обычные и бронированные машины (мы их называли танкетками), оружие. И было море пороха в трубках – чёрного, серого; патронов различного калибра – от крупнокалиберного пулемёта до автоматных, винтовочных, пистолетных.
Из пороховых трубок мы любили запускать ракеты. Для этого лучше всего годился серый порох. Бралась трубка длиной 8 – 12 сантиметров (вообще они были разной длины), зажигался верхний край, трубку надо было держать с наклоном от себя, чуть прижимая к земле. Газы от горящего пороха бьют назад, отпускаешь трубку, и она, сгорая, взлетает как ракета!
Пускали такие «ракеты» и у наших домов и хат – с вполне реальной перспективой зажечь их. Но Бог миловал…
Играли «в первый «пук» – опасную и жестокую игру. Для неё собирали сухие ветки, разжигали костёр, набирали целый картуз патронов и высыпали в огонь. Сами, взявшись за руки, становились кольцом вокруг горящего костра. Поём, кричим, визжим, чтобы скрыть страх, и всё кружимся вокруг костра. Как только первый патрон – «пук» – выстрелит, брызгаем врассыпную в разные стороны. Я всегда бежал к заранее присмотренной яме, вроде окопчика… Лежал, прижавшись к земле, а патроны – «пук, пук» – и пули вжикают во всех направлениях.
У нас эти игры, к счастью, обходились без последствий, а в Ясиново-1 ребята бросили в костёр гранату и одному из них, цыгану, оторвало ногу. Его, правда, спасли, он потом научился сапожничать и работал в деревенской сапожной мастерской.
Гарик и Валик Коваленко были недолго в нашей компании – года три. Потом их отца перевели в другой район, и мы расстались. Я им обоим очень благодарен и всегда вспоминаю о них с теплотой. Они были постарше, хорошо во всех отношениях развиты, хорошо сами плавали и меня научили плавать.
Купаться мы ходили за мост, соединявший Ясиново-1 и наше Ясиново-2. Старшие ребята прыгали в воду с моста, а это два-три метра высоты. Я на первых порах плавал так: становился на камень, отталкивался от него в сторону, где было не так глубоко, и под водой плыл к берегу. А однажды сказал:
– Я тоже сегодня прыгну с моста!
– Прыгай, – поддержали братья Коваленко, – мы, если что, рядом будем.
Зашёл я на мост, а до воды, оказывается, так далеко, речка текучая, быстрая – страшно… И только я хотел отойти, как Валька с разбега столкнул меня в воду. Как-то я вынырнул… Братья – рядом… Я за одного хотел уцепиться – он отплыл, за другого – то же самое. У меня оставалось в той ситуации, как у барона Мюнхгаузена, два выхода – погибнуть или спастись, утонуть или выплыть. Догадайтесь с трёх раз, что я выбрал? Конечно, я выплыл… И почувствовал неописуемый восторг от того, что, оказывается, сам могу держать своё тело на воде. И с твёрдым осознанием этого факта – я сам могу – с разбегу бросился в воду.
Так жестоко-расчётливо братья Коваленко помогли мне обрести себя самого. За это и не только за это, повторяю, я им благодарен. Я не знаю, где они и что с ними, и, конечно, хотел бы с ними увидеться… На смену им в нашу ватагу пришли другие ясиновские пацаны…
***
Не могу не вспомнить ещё об одной своей операции, можно сказать, необдуманной и даже в какой-то степени преступной… Под горой находилось деревенское кладбище, а на ней или, вернее, на холме мы оборудовали наш НП – наблюдательный пункт для ведения военных действий с другими «боевыми отрядами». Там мы устроили окопчик.
У меня был трёхгранный штык, с которым я никогда не расставался, – это было моё личное оружие. И ещё, уже упоминал, была винтовка с оптическим прицелом. Я смотрел через его окуляр на другую сторону речки, метров, наверное, за 700, и всё пространство с нашего НП хорошо просматривалось…
Вижу – корова из стада пришла, и хозяйка – бабулька дала ей какое-то пойло в ведре, а сама пошла за подойником, принесла и начала доить. А рядом – сараюшка и на двери её хорошо видно светлое пятнышко. Я в него прицелился, выстрелил… Корова насторожилась, перестала жевать, старушка перестала доить… Что, мол, там такое? Выстрела же из винтовки им обеим с моей стороны не слышно…
Я же в свою очередь понял, что могу, оказывается, метко стрелять: дай-ка, думаю, ещё по ведру попробую. Навёл, прицелился, щёлк! Коровы взбрыкнула, ведро опрокинулось… Старушка оказалось шустрой не по годам и мигом юркнула за дверь сарайчика. Спустя какое-то время выглянула, все ещё не понимая, что же это такое было?
И тут мне стало стыдно и по-настоящему страшно от того, что я уже натворил и мог ещё натворить… С тех пор я старался в людей никогда больше не целиться, хотя был один случай, много позже, о котором я ещё, может быть, расскажу…
Думаю теперь, что хорошо хоть пулемёт у нас был с несправным затвором, и поэтому мы из него стреляли губами. И если на нас шли в атаку наши противники, с нашей стороны звучало: «Ду-ду-ду-ду!».
Куда подевалось всё наше вооружение – уже не помню. Сабля и бинокль были у братьев Коваленко, у меня довольно долго штык оставался, потом и он пропал…
Жил я тогда, как говорил, бегая бегом. Бывало, мать или бабушка покличут:
– Толя, иди кушать!
– Зараз, – откликаюсь.
Прибежал, кусок схватил и побежал дальше… Однако уже были в ту пору у меня обязанности и по домашнему хозяйству: нарвать на неудобьях лебеды и чира, он буйно рос, особенно после дождей, на брошенных усадьбах, и я его, кстати, потом больше нигде не видел. Дальше надо было топориком порубить эту зелень в корыте, сдобрить сверху отрубями – и корм для свиньи готов. Употребляла она его за милую душу, и мясо потом было отменно-беконное.
Помогал маме готовить пойло для коровы, когда она у нас появилась: замачивали жмых, размешивали, молоко было после этого жирное, вкусное. У свиней чистил, телёнка поил. И всё это быстро-быстро, урывками, бегом…
А всё остальное время, весь день, на речке. Пятки на ногах чёрные, потрескаются, босиком же с весны до осени… Сестра мне их отмоет, смажет гусиным жиром – мягкие становятся, но ненадолго, конечно…
Был я худой, загорелый – кожа да кости, но никогда ничем не болел, только, кажется свинкой однажды. Помню, лето, жара, а у меня всё горло обложило. Жевать даже не могу. Пацаны кричат с улицы:
– Толя, айда!
А мне лежать надо… Обидно…
Очень живое, интересное, насыщенное событиями детство у меня и моих сверстников было. У моих детей и внуков – совсем иное, интеллигентское…
Что ещё скажу? Мы в детстве не пререкались со старшими, почти не матерились или, во всяком случае, очень редко… После воскресного базара шли на базарную площадь собирать бычки. Отрывали с них грязную часть, а оставшимся табаком набивали кисеты, вертели самокрутки. Я однажды накурился до тошнотиков и как-то очень быстро понял, что это не моё. Курить так и не научился…
В других же делах становился закопёрщиком, творил разные каверзы… Недалеко от нас бабушка Зиня жила, я с её внучкой дружил… А бабушку пугал по ночам. Брал суровую нитку, делал из неё дратву, протягивал через вар (смолу), вдевал в цыганскую иголку, пристраивал её к оконной раме и отползал – насколько нитка позволяла. Как только бабка свет погасит, я начинаю за нитку дёргать, иголка по стеклу елвозит, издаёт неприятный звук. Бабка утром соседям жалуется:
– Что-то у нас с хатой неладное творится: как ночь – так гудеть начинает.
Да, чуть не забыл: рогатки ещё у всех нас, пацанов, были на вооружении – всех видов и расцветок, настоящие произведения искусства с использованием высококачественной немецкой резины. Я один раз хотел в воробья из рогатки пульнуть, а тут некстати соседка вышла, и я угодил ей прямо в висок. Она охнула и, как сноп, в смородину повалилась. Моя бабушка, только что с ней разговаривавшая, даже не поняла, что с ней случилось… Зато сестра Зида сразу сообразила, чьих это рук дело, и погналась за мной. Да меня разве догонишь! Я понял, однако, что возмездие неотвратимо, и потом чуть не до полуночи на клёне у нашей хаты просидел, как ни зазывала меня Зида.
– Толя, иди домой, ноги мыть будем!
Кажется, всё обошлось тот раз без взбучки.
Как я корову пас
Рассказывал уже о маме и ещё не раз буду возвращаться к ней в этих своих воспоминаниях. Потому ещё, что сколько ни говори о ней, всё равно будет мало – такой незаурядной женщиной она была. Не только великой неутомимой труженицей, обладавшей сильным характером, но и, говоря современным языком, имевшей ярко выраженную предпринимательскую хватку. Вспомнить, как она распорядилась тем же бараном, обмененным в начале войны на самогон, – весь он от мяса до последней шерстинки и оставшейся остриженной шкуры пошёл в дело. Кормились мы и с огорода, в котором, что только ни выращивали – всевозможные виды овощей и фруктов. Промышляли с мамой разные плоды в лесопосадках, окружающих деревню, и в лесу. Мама была очень экономной и бережливой хозяйкой – у неё ничего не пропадало.
Мамин самогон из сахарной свёклы – это была ходовая валюта на все случаи жизни. И, конечно же, «мыльный бизнес» – самый тяжёлый и самый денежный.
Я к тому это всё повторяю, чтобы ещё раз напомнить: к папиному приходу домой (о его одиссее ещё будет отдельный рассказ) мама сумела скопить десять тысяч рублей. Он же вернулся практически без ничего. Их эшелон, шедший из Германии, на территории Польши (и, по всей вероятности, не случайно) столкнулся с шедшим навстречу грузовым составом, к счастью, пустым. Тем не менее произошла большая авария, часть вагонов улетела под откос, часть осталась на путях. Плюс ко всему этот эшелон был ещё обстрелян и ограблен дружественными поляками.
Замечу для непосвящённых: по рассказам отца, да из истории хорошо известно, что в Германии после подписания акта о капитуляции никаких партизанских действий против советской армии не наблюдалось, а вот в той же Польше, Прибалтике, Западной Украине ещё не месяцы, а годы усмиряли борцов с Советами дивизии НКВД.. Но это так, к слову…
Главное, что папа вернулся «выжий», как я тогда говорил. А скопленных мамой десяти тысяч рублей хватило на то, чтобы купить тёлочку. Я назвал её Мойка. Она росла у нас, пока не стала коровой. И тогда нашей семье жизнь по-настоящему улыбнулась: корова в ту пору была кормилицей – спасительницей крестьянской семьи. У нас на столе появились собственные, от своей коровы, молоко, сметана, творог, масло.
Мы, дети, особенно ждали, когда Мойка отелится, а мама надоит первое молоко и сварит молозиво. Ничего вкуснее я в то время не ел. Резали его на кусочки и вкушали как высшее лакомство.
А ещё с появлением у нас коровы расширились и мои хозяйственные обязанности. Весной, когда поднималась молодая трава, коров выгоняли в степь. Пасли их специальные пастухи, обычно пришлые люди, нередко – бывшие заключённые. После войны вообще наблюдалось большое движение народа.

