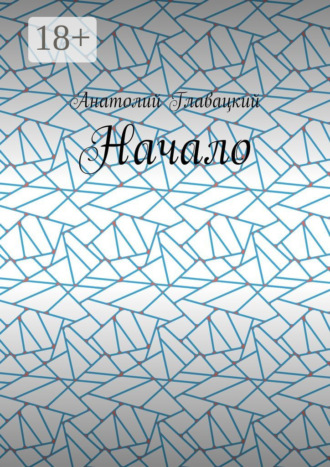
Полная версия
Начало
Помню двух быков с ярмом на шее, похоже, бесхозных, потому что шли они сами по себе… И немцам не до них – отступают.
Тогда же впервые автобус увидел – с большими окнами, раздвинутыми занавесками. И в одном – немец бреется, хотя автобус движется – там дорога ровная. Я кричу:
– Мама, мама! Хата на колэсах и немец в окне бреется!
…В семействе нашем было тогда три мужика: я, кот Бун и собака Тарсик. О коте скажу лишь, что прославился он тем, что утащил из кастрюли курицу, которую мама поставила вариться, а взрослые отвлеклись – в лес за дровами собирались… Курицу же Бун использовал по прямому назначению и долго потом никому на глаза не показывался.
Тарсик же был выдающийся пес – здоровенный волкодав, который лаял так, что его было слышно в деревне за пять километров, где жила сестра отца, моя тётя, Нина. Погиб он уже после войны: плотно поел и в поисках воды оборвал цепь, прибежал на речку, напился, но провалился под лёд и не смог выбраться на берег. И было у нас чувство – будто близкого человека потеряли…
***
В войну в нашей деревне была расквартирована румынская часть, и в этом нам, можно сказать, повезло: румынские солдаты к местному населению почти не касались, не бесчинствовали, людей не обижали. А вот полицаи, чужие правда, не местные, бывало зверствовали. Такой вот парадокс – враги могут быть человечнее «своих», бывших советских…
У нас был, конечно, свой огород, где выращивались картошка и овощи и еще кустовой виноградник, соток, наверное, 15. И когда он начинал созревать, мама его караулила – метрах в пятидесяти от хаты небольшой летний курень был, а на вооружении у неё – вилы-тройчатки, собака опять же…
И вот как-то, уже после полуночи, тихий дождь накрапывает, собака на привязи дремлет, мама слышит тихие шаги – чап-чап, чап-чап – и видит две фигуры в лунном свете. Румынские солдаты босиком, чтобы не слышно было, и в закатанных штанах, чтобы их не замочить – уже роса упала… Винограду им захотелось – они же там у себя только его да кукурузную кашу-мамалыгу ели.
Спустить собаку – порвёт ведь, молодые совсем парни… Словом, как-то спугнула она их, запомнив лица «переляканных» (то есть перепуганных) румын. Но дело так решила не оставлять и тем же утром побежала в комендатуру жаловаться: что же это, мол, такое творят ваши воины, лазят по винограднику, топчут…
А дальше было вот что! Офицер дал команду выстроить всё своё войско – в шеренгу по одному. Откуда-то притащили широченную лавку, возле которой нарисовался здоровенный мужик с нагайкой.
– Ну, матка, показывай, где они, твои обидчики?
Тут уж мама и сама не только опомнилась, но даже испугалась: их ведь до смерти могут запороть. А ей как жить потом с этим грехом. А если их товарищи в отместку потом хату сожгут…
Лица любителей винограда мама хорошо запомнила и в строю их, конечно, узнала, позеленевших от страха в ожидании предстоящей экзекуции…
Ответ же её был таков:
– Их тут нема, – сказала твёрдо. – Тих, яки у мэне были.
– Ну, гляди, матка, если в другой раз не узнаешь – сама получишь 25 горячих, – строжился офицер, похоже, прекрасно разгадавший её благородную, спасительную для его подчинённых, неправду…
И, действительно, был случай, когда другую женщину показательно выпороли на такой же лавке, задрав подол и оголив зад в старых, латанных-перелатанных трусах… Тут такая история. Командир-румын завёл себе любовницу – медсестру местной больницы. На свидание к ней примерно за полкилометра он ездил на экзотической легковой машине, и она, как на грех, однажды забуксовала – дорогу песком засыпало. Комендант разгневался и дал команду старосте из местных, чтобы ясиновские женщины ее почистили. Поручение его не было выполнено, машина опять забуксовала, и он вызвал старосту: в чём дело? Да не хотят, мол, бабы, одна даже сказала: пусть сам дорогу к своей бляди чистит, а то и вовсе пешком ходит – недалёко…
И языкатую бабу выпороли, после чего она первой побежала благоустраивать проезжую часть. Историю же эту ещё долго в Ясиново вспоминали. И когда стали после войны возрождать социалистическое соревнование, можно было услышать от переживших оккупацию: «На хрен это все нужно? Одного румына опять вернуть с нагайкой – и никакого соревнования не надо… И всё, что надо, будет сделано».
***
Говорил уже, что у нас в войну, если и бесчинствовали, то лишь полицаи… Была в нашей оккупационной жизни одна трагическая ночь. Как-то к нам в хату ввалился пьяный полицай, стал ругаться, угрожать и непонятно было, что ему надо. Орал:
– Вы все коммунисты! Ваши мужики против нас воюют!
Затем сел задом прямо на стол и ногами высадил окно на нашей кухне вместе с рамой. И как только зазвенели разбитые при этом стекла, видно, всё же появился в его пьяной башке проблеск сознания: что же это я тут натворил, почему и зачем? Он сразу как-то обмяк, притих и сбежал.
Было холодно – и от пережитого страха, и оттого, что с улицы дуло… Мама заложила оконный проём, подушкой, каким-то тряпьём, и мы как-то переночевали…
А утром мама пошла в комендатуру, и нам прислали плотника, который вставил и застеклил окно… Такое было у румынского начальства отношение к мирному местному населению.
***
Наша хата стояла недалеко от комендатуры, возле которой всегда было людно, полицаи там толклись… Мы это место старались обходить и даже временами прятались у папиных друзей, которые жили подальше. Ночевали у них, а собаку Тарсика пускали на длинную цепь… Немцы уже отступали, и мы боялись, если вдруг наша хата загорится или её подожгут, как бы Тарсик вместе с ней не сгорел.
Выживали тогда, кто как мог… Люди в огородах даже сеяли рожь, пшеницу, что-то из них потом готовили. А мама рожь и пшеницу не садила, она мыло варила (об этом я расскажу отдельно), продавала на базаре и хлеб покупала.
Я это потому всё рассказываю, чтобы понятно было: укрыться-то у папиных друзей мы могли, но ни в коем случае не имели права их объедать. Они и сами жили впроголодь, поэтому мы должны были с собой чего-то съестного принести или обязательно вернуть, если вдруг подкормились за их счёт.
Так мы с мамой однажды пошли за хлебом в свою хату. Она была как бы из двух частей: белая, в которой мы жили, и чёрная, недостроенная – что-то вроде чулана или кладовки. И вот пришли, а я почему-то в хате один оказался. Стою, держась за ножку кровати. Открывается дверь снаружи и через проём двери вваливается длинный немец в короткой шинели. И мы стоим – друг против друга.
– Матка нихтс? – спрашивает он.
Я, будто ожидал именно этого вопроса, тут же отвечал ему, глядя снизу вверх:
– Нихтс…
Немец как-то резко крутнулся на месте и тут же выскочил…
Хлеб же наш хранился как раз в черновой части хаты, в кладовке…
На всю жизнь я запомнил того немца и наше с ним «общение».
Помню ещё: в тот же день или чуть позже снова идём с мамой к папиным друзьям в край деревни, и нас догоняют два верховых казака в кубанках со звёздами, на красивых конях – вороном и гнедом.
– Мамка! Немцы куда пошли, в ту сторону? – спрашивает один, показываю рукой.
Мать подтвердила… Это уже разведка наших наступающих частей была.
Ещё из тех дней… Лежим с бабушкой на печке и смотрим через окно сверху – будто со второго этажа – как вдали по дороге ползёт серая гусеница и перед поворотом в нашу сторону вдруг начинает делиться… Это наши танки шли на Одессу, которая была освобождена 10 апреля 1944 года.
У нас же в Ясиново-2 боёв не было: немцы не окапывались, оборонительных сооружений не строили. Хотя перестрелки все же были… Уже после войны в округе собрали останки 76 погибших и похоронили в братской могиле в центре посёлка. Я до сих пор помню фамилию – майор Мороз Василий Дмитриевич. Там были ещё три сержанта и остальные рядовые, чьи фамилии установить удалось, но также и безымянные.
***
Да, война была, оккупация, времена тяжелые. Но была ещё моя внутренняя жизнь, с её самыми разными ощущениями и даже радостями… Вот утро – весеннее, росное… Солнце всходит и уже освещает по касательной большой клён на углу нашей усадьбы – сколько раз я лазил на него и даже прятался среди его густых ветвей от вполне законного возмездия сестры.
Выскочишь утром спросонок «по-маленькому»… Солнце глаза слепит, день начинается… А ты стараешься пустить струю и чтобы обязательно подальше, чем вчера было. Она чуть не светится на солнце, рассыпается серебряными брызгами… Хорошо!
Потом весь день на улице с пацанами – мы с ними после войны целые военные баталии устраивали. Но об этом я расскажу отдельно…
Мама – кормилица наша
Мой рассказ о жизни в оккупации никогда не будет полным без рассказа о маме – нашей кормилице и поилице. Мы и оккупацию-то пережили лишь благодаря ей…
Хочу ещё раз напомнить читателю, что в те годы – с лета 1941 по февраль 1944 – семья наша состояла из шести живых существ. Основой её, стержнем, хранительницей очага была мама, Анна Ильинична, 1907 года рождения. Потом бабушка, Юлия Фризантовна, папина мама, 1882 года рождения; моя сестра Зида (в переводе с турецкого – звезда, не знаю, впрочем, почему её так назвали), родившаяся в 1932 году; ваш покорный слуга образца 1939 года. И мои ровесники – кот Бун и пес Тарсик. О последнем уже говорил, но ещё раз повторю: в тихую вечернюю погоду его лай был слышен километров за пять. Когда я оказывался в доме у папиной сестры тети Нины, которая жила в деревне на другом берегу реки, его мощный, гулкий бас разносился над рекой. И я знал – это мой любимый пес передаёт мне привет…
Так вот… Мама… Вся тяготы по обеспечению пропитания нашего семейства полностью легли на её хрупкие плечи. Она была небольшого роста, но очень быстрая в движениях, и любую работу выполняла быстро, умело, я бы даже сказал, красиво и с хорошим качеством. Помимо нашего обширного хозяйства, она занималась, как сейчас бы сказали, коммерцией: выращивала ранние редиску, лук-батун и лук-сеянец, ранние огурчики, помидоры и укроп, ранние морковку, капусту и картошку. И вся эта разнообразная витаминная продукция шла не только нам на пропитание, но и на продажу.
Огород у нас был изначально 50 соток, пока не пришла советская власть и не обрезала его по самые хозпостройки. А до этого в разные годы сеяли даже рожь, кукурузу сажали… Рассказывал уже, что и виноградник у нас был… Жили, можно сказать, за счёт приусадебного участка, потому что в колхозе, где до войны и после неё много лет проработала мама, денег не платили вовсе, а натуроплата обычно была (если вообще была) чисто символическая. И мы к этому ещё вернемся…
Все ранние овощи на первых порах, пока стояла выгодная цена, пучками – десятками штук мама реализовывала на базаре, чтобы заполучить для семьи хоть какую-то копейку для различных житейских нужд.
Особенно же голодно становилось в апреле – мае. Прошлогодние запасы съестного заканчивались, новые овощи ещё только «подходили»… Я, начиная со Святой Пасхи, независимо от того, ранняя она была или поздняя, переходил на «летнее обмундирование»: босиком, в уже упомянутых «несносимых» штанах, в поисках подножного корма обследовал с мамой или с деревенскими пацанами все окрестные сады и леса (лиственный был в трех километрах от нас). Добывали в лесу щавель, дикий лук и дикий чеснок. На старых вишнях искали застывший сок на треснувшей коре, заворачивали его в молодые зелёные листья и ели их – будто домашние вареники с необычной начинкой… Так что к лету наши худые загорелые тела были напитаны различными витаминами, минеральными солями и прочими чистыми природными вещами, за исключением, правда, обыкновенной хорошей пищи, так нужной растущему организму…
Ватагу ясиновских пацанов, с которыми я до школы проводил все свободное от домашних обязанностей время, я и теперь воспринимаю как стайку молоденьких, только вставших на крыло воробьят. Она по первому крику, первому зову всегда была готова мгновенно сняться с места и полететь… Я же при этом был шустрее всех и бегал всегда быстрее всех. Хотя и был очень маленьким: до восьмого класса стоял в шеренге на уроках физкультуры предпоследним. А в восьмом классе сразу перешёл в этой шеренге на третье место – буквально за полгода подрос на 35 – 40 сантиметров.
Сестра Зида, уже учившаяся тогда в Одесском мединституте, приехав на каникулы, не узнала меня: я по её совсем недавним представлениям должен ей быть по плечо и смотреть на неё снизу вверх, а тут я вдруг уже её перерос…
Ну, а теперь, как говорят англичане, продолжаем молотить нашу копну с другой стороны… Рассказывая о предприимчивости и трудолюбии мамы, справедливости ради замечу, что в нашей семье не было ни белоручек, ни лентяев. И все огородные культуры, о которых уже шла речь, мы обрабатывали сообща: в этом деле по мере сил и умения, физических возможностей участвовал каждый – сажали и сеяли, поливали и пололи, убирали… Но осью, стержнем, вокруг которых всё вращалось, была мама. И она бралась даже за такие «предприятия», что вам, нынешним читателям, даже трудно себе это будет представить. Но ведь это было, было…
В 25 километрах от нас был посёлок городского типа – райцентр (не наш) Ананьев. Мне всегда нравилось это его название – было в нём что-то иное, не наше, мне даже казалось, что и люди там не такие, как мы, а другие…
В Ананьеве был маслозавод, на котором ещё до войны делали подсолнечное масло. Семечки сначала обжаривали, потом очищали от лузги и закладывали под пресс, представлявший собой большой цилиндр со штоком. А эти обжаренные остатки люди набирали и ели – мы их назвали тотушки. Это всё я позже узнал, уже после войны, когда колхозы опять стали сеять подсолнечник и завод снова заработал. В войну же он не работал.
Тут я хочу сделать одно. отступление – о силе духа и живучести советского народа. Доведённый до полной нищеты условиями жизни, он и к ним сумел приспособиться и выживать даже в таких обстоятельствах, какие другому народу и не снились. Потом, уже во взрослой жизни, я услышал хорошую, отвечающую духу данного момента пословицу: что русскому хорошо, то немцу смерть. Она, правда, имеет более широкий смысл, но к нашей истории её также можно отнести. И на примере моей жизни станет ясно – почему я сделал такое отступление.
В годы оккупации ананьевские «дельцы-предприниматели» вспомнили, что ещё до войны в каком-то тысячу девятьсот «затёртом» году на территории этого маслозавода или рядом с ним была зарыта цистерна с подсолнечным маслом то ли на 20, то ли на 30, то ли на все 50 тонн. Масло это из-за давности его производства прогоркло до такой степени, что даже воровать его не находилось желающих.
В оккупацию же обстановка кардинально изменилась. Самыми ходовыми, ценными товарами стали соль, хлеб, спички (их продавали даже «партиями» по пять штук – не коробков, а спичек), папиросы, махорка и мыло. Без мыла жизнь превращалась в одно сплошное почёсывание скрытых под одеждой тел – проще говоря, вши донимали… Мама, бабушка, сестра собирали золу из печки (древесную), заливали водой, верхушку сцеживали, собирая мусор, и мыли в этой воде волосы. А потом ещё смазывали керосином, чтобы не заводились в них гниды, из которых потом появляются вши.
Но при чём тут цистерна с каким-то забытым прогорклым подсолнечным маслом – спросите вы? Очень даже при чём. Если подсолнечное масло смешать с каустической содой, хорошенько прокипятить, затем выпарить лишнюю влагу… И эту ужасно пахнущую – воняющую – смесь вылить на заранее приготовленный из железа противень, дать ей остыть. Потом положить на стол кусок фанеры по размеру противня, даже желательно чуть больше его, и резко перевернуть противень на фанеру, то на ней останется черный «пирог» толщиной в семь-восемь сантиметров. Если, конечно, так можно его назвать. Затем этот пирог режется суровой ниткой №10 на ровные бруски шириной в десять сантиметров, их аккуратно раздвигают ножом, чтобы подсохли… И через несколько часов получаются куски замечательного хозяйственного мыла. Им можно стирать бельё, одежду, помыть голову и даже, извините за прямоту, другие интимные места человеческого тела… Благо, что вода при этом у каждого своя, в колодцах, и если её перед помывкой ещё и подогреть, а если после этого найдешь и чего-нибудь покушать, то на жизнь можно смотреть уже совсем другими глазами!
И вот таким «мыльным промыслом» мама занималась несколько лет. Спросите – где она брала каустическую соду? Там же, где другие «производители» (кстати, не так уж много желающих находилось заниматься этим, без преувеличения, «вонючим делом») – в полуразрушенном сарае, куда эта сода была завезена до войны неизвестно для каких целей, никем не охранялась и была по сути бесхозной. Но, как и прогорклое подсолнечное масло, имела вполне реальную цену, которую приходилось платить ананьевским ушлым дельцам.
Мама каждое воскресенье выносила на наш базар целую кошёлку этого мыла. И к ней сразу выстраивалась очередь. И сзади, из конца ее, кричали:
– Аня! Не давай больше двух кусков в одни руки!
Или:
– Аня! Зачем ты ей отпустила целых пять кусков?
– Да у неё пятеро детей!
– А у меня трое. Им что, немытыми быть?
Кусок мыла стоил десять рублей. На деньги от его продажи мама покупала хлеб, сахар, какие-то обновы для сестры и другие необходимые вещи. Ведь как-то надо было жить, и всё было с базара…
Мамино мыло продать было легко – оно уходило на базаре влёт. Но ведь «сырье» для этого будущего товара, пользующегося повышенным спросом, надо было доставить из Ананьева домой (напомню, он находился за 25 километров от нас). И не по асфальту, а через бугры, в распутицу, по грязи, пешком… 25 километров туда и столько же обратно…
За сырьем мама ходила вместе со знакомой женщиной, тётей Палазей – они дружили семьями еще до войны, муж её был убит в 1941 году, под Одессой. Мы же, как папа ушёл на фронт, и до конца войны, о нём ничего на знали – где он и что с ним.
А теперь в деталях, как шла доставка сырья. До обеда воскресенья мама обычно распродавала очередную партию мыла, сваренного в субботу. Когда варилась эта адская смесь, зимой обычно или весной, запах в хате стоял невыносимо удушающий (да и вредный наверняка – не могли же быть полезными для здоровья этот чад, смрад, испускаемый паром, перемешанным с каустической содой). Он, этот запах, почти не успевал выветриваться из нашей хаты…
И вот мама, уже простоявшая несколько часов на базаре, приходила домой, наскоро обедала тем, что приготовила бабушка, и собиралась в дорогу. Брала восьмилитровую оцинкованную флягу с узким горлом и затычкой – пустым кукурузным початком, непромокаемый клеёнчатый мешок, узелок со съестным и вдвоем с тётей Палазей отправлялась в неблизкий 25-километровый путь…
За нашей деревней, за больницей, протекала так называемая матка – ручей, летом пересыхавший, а зимой и весной в нём всегда держалась вода слоем в 30 – 40 сантиметров, а шириной он был метров в 100 – 150. Зимой на нём была корка льда или ледяное крошево. Обойти эту водную преграду по пути в Ананьев возможности не было – матку всякий раз туда и обратно надо было переходить. Сапог ни у мамы, ни у её подруги не было – они ходили в ботинках, надевая шерстяные носки, которые мама вязала для обоих. Идти через матку в ботинках нельзя – в мокрых потом не дойти или ноги будут сбиты. Им оставалось одно – снять и ботинки, и носки и босыми ногами идти через это ледяное крошево вброд. А нога у мамы была маленькая, 36-го размера… Идут, ног не чувствуют от холода…
Вышли на бугорок, вытерли тряпочкой ноги, надели носки, ботинки, опять пошли. Сначала ног ещё не чувствуют, а потом они горят, как в огне
…Идти же надо мимо леса, день короткий, темнеет рано, да ещё туманы… Страшно… Но надо идти… То вверх, то вниз, то по грязи…
И вот, наконец, уже поздно ночью, часов в 11 – 12, добрели до Ананьева. Мокрые, продрогшие, уставшие, позади, даже если считать по четыре километра в час, шесть часов пути. Там их женщина пускала на ночь, а они её подкармливали. То было время, когда люди помогали друг другу и – поразительное дело – даже песни пели…
Утром, чуть свет, чтобы полицаи не заметили, за дело… Там всё было чётко организовано: в одном месте наливают масло, в другом насыпают каустическую соду – и то, и другое за деньги, конечно, хотя «сырьё», напомню, было бесхозное. Что дальше? Мама с подругой делают перевязь для поклажи через плечо – восемь килограммов с одной стороны (восьмилитровая фляга с маслом), непромокаемый мешок такого же веса с каустической содой с другой – и вперёд на Ясиново. 22 километра до ледяной переправы, босиком через эту ледяную купель… Сапёры на войне, наверное, в таких условиях не работали. У нас в деревне тоже мало кто на такое мог отважиться: сидели голодом, пухли от голода… Наша мама была не такая – не могла себе позволить, чтобы мы бедствовали.
…В понедельник, часов в 11 – 12 дня, мама приходила домой, наскоро перекусывала тем, что приготовила бабушка, и опять начинала «кашеварить» на адской мыловаренной кухне. И так – до ночи. В пять утра вываливала готовую массу, охлаждала, нарезала суровой ниткой бруски. Потому что во вторник – второй базар, к которому надо успеть… И люди уже выглядывают – идёт Аня Главацкая со своей кошёлкой на базар или нет? Расторговалась, ночь переночевала, в среду с утра – опять в путь, через ледяную воду…
И так два, а то и три раза в неделю, в общей сложности 100 – 150 километров, половина из которых – с грузом. Разве могла она быть здоровой после всего этого? Как мучилась потом в старости с ногами! Зато когда папа вернулся в 1946 году домой из Германии, у мамы было скоплено десять тысяч рублей. На них купили тёлочку, которая через год стала коровой. Но мой рассказ об этом впереди.
Что ещё спасало нашу семью в годы войны и оккупации и потом? То, что не было в ней воровства и обмана, что все в меру своих сил и возможностей трудились. Мне поручалось поить нашу живность, для чего надо было принести из колодца шесть вёдер воды. А это – 505 шагов, я посчитал… Это потом, когда семья наша встала на крыло, мы выкопали свой колодец, рядом с хатой, обложили бетонными кольцами!.. А тогда носить воду мне больших трудов стоило, да надо было ещё убрать за скотом…
Я, может быть, мягко выражаясь, буду непатриотичен и отдаю себе отчёт в том, что за подобные высказывания меня в другие времена отправили бы в места не столь отдалённые… Но все равно это скажу… Насколько могу судить по своим смутным воспоминаниям и помню по рассказам мамы, расквартированные в нашем Ясиново-2 румыны практически не вмешивались в местную жизнь, которой больше управляли полицаи… Жили по же люди сами по себе и выживали как могли. Пытались даже создать у нас что-то вроде колхоза, но не получилось. И люди стали привыкать к тому, что сами должны организовывать свою жизнь и отвечать за себя. Вся общественная жизнь и тогда, да и ещё годы после протекала на базаре, откуда узнавали и последние новости. Году, кажется, в 1953 появился у нас динамик, а в хате – радиоточка, это было настоящее чудо.
Когда пришли наши, были, конечно, слёзы радости. Но нельзя сказать, что жизнь стала налаживаться. Мама по-прежнему вынужденно занималась своим тяжелейшим «мыльным бизнесом» и однажды, как обычно, отправилась с полной кошёлкой на базар. Здесь её и «взяли с поличным» – милиционер с сельсоветчиком. В войну они были неизвестно где, а тут сразу объявились – вот они мы, власть…
– Собирайся, – говорят, – пойдёшь с нами.
– Куда это? – удивилась мама.
– Спекуляцией занимаешься – дело оформлять будем.
И повели под руки, как преступницу, рассказывала позднее мама. Она же решила: «Будь что будет, а я им, сукам, покажу, какая я спекулянтка!,,
Заводят её к председателю сельсовета (который, кстати, тоже не воевал) – сытому, краснощёкому, похоже, уже «угостившемуся» в успевшей открыться с приходом наших чайной.
– Ну что, спекулянтка, с тобой делать? – спрашивает.
А у мамы в глазах пелена: боялась, как бы не упасть. Кошёлка у неё была лёгонькая, из осоки сплетённая, мыла в ней оставалось наполовину, половину успела продать. Мама эту кошёлку хотела соседке на базаре оставить, чтобы присмотрела за ней. Но милиционер сказал:
– Нет, с собой бери – это вещдок!
В ответ на вопрос председателя мама размахнулась и швырнула кошёлку с оставшимся мылом прямо на стол. Кошёлка порвалась, мыло разлетелось во все стороны…
– Это я спекулянтка! – закричала она. – Мой муж на войне. А ты где был? – это она председателю. – А ты? – милиционеру. – Откуда вы, из каких щелей повыползали? Моих детей кто будет кормить? Может, вы?
Тут люди набежали в сельсовет, привлечённые шумом… Председатель с милиционером вроде возмутились сначала, но потом испугались:
– Аня, Аня, да ты что?
Собрали её мыло и отпустили без всяких последствий…
Я к тому это рассказываю, чтобы понятно было, какой была «наша» советская власть. Земли вдоволь людям не дала, в колхозах зарплату не платили – работали, как тогда колхозники меж собой говорили, «за палочку» (то есть отмеченный трудодень, всего же их за год надо было выработать в обязательном порядке не менее 260). Помню 1948 год, мне девять лет… Мама заработала в колхозе за год 24 килограмма пшеницы. Мы с ней пошли на ток, где нам отвесили: ей – 16 и мне – 8 килограммов. И мы с ней бежали домой, не чувствуя ног от радости. Вот как нам власть помогала – как оплачивала мамины труды

