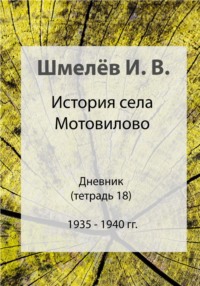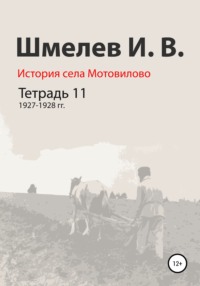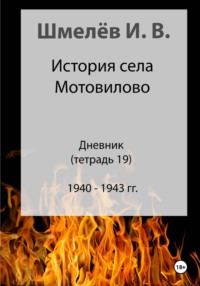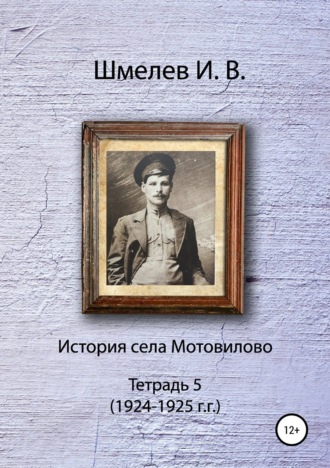 полная версия
полная версияИстория села Мотовилово. Тетрадь 5
– Ты куда!
– Домой! Куда еще? – растерянно проговорил Ванька.
– Нет, погоди! Сначала получи! – и, размахнувшись, с силой ударил его в грудь кулаком. – Это тебе аванс, – самоуверенно сопроводил удар словами Минька.
– А когда под расчёт-то он получит? – насмешливо хихикнув над Ванькой, проговорил Мишка Крестьянинов.
– Расчёт он получит позднее! – самодовольно пояснил Минька. – А, впрочем, чего ждать другого такого подходящего момента, – и он разъярённым петухом набросился на Ваньку, сбив его с ног, подмял под себя и начал колошматить кулаками. Натешившись, Минька отступился. Вспотевший и часто дышавший от возни, он уселся на лавке, втиснувшись между девок. А Ванька, тяжело поднявшись на ноги, вышел из избы, бросился вдогонку своим товарищам.
После этой потасовки в келье поутихло. Девки, смиренно наблюдавшие за Минькой, льстиво восхищались его героизмом, вскоре запели. Парни, млея от безделья, жеманились около девок, Мишка Крестьянинов, изнывая от скуки, полез на печь с намерением озорства и пакости. Он сгреб с печи все лапти, в которые обычно обувались хозяева избы Терёшка и Дарья и сбросил их в квашню, в которой с вечера Дарья приготовила тесто на хлебы. Мишка снова накрыл квашню квашенником и как ни в чем не было, присев на корточки у порога, закурил, напустив в избе столько дыму, что Дарья вынуждена была попотчевать его ухватом. На утро Дарья начала было месить тесто, сняла с печи квашню, раскрыв ее, так и обомлела: из пышущего, входившего теста торчали грязные лапти. Поохала она, повздыхала, тесто испорчено, оно годилось теперь только свинье – убыток непомерный.
– Иди с жалобой! – надразумил её Терентий, – это дело рук Мишки Крестьянинова! Пожалуйся старикам, они люди степенные и к Савельевым зайди, Минька-то их вон как вчера бушевал, вехни Василию-то Ефимычу.
От Крестьяниновых с жалобой Дарья пришла к Савельевым как раз в обед. Вся семья сидела за столом. Дарья, степенно помолившись на образа и сказав «Здорово ли живете! Хлеб да соль!», поглядывая на растерявшегося Миньку, высморкавшись в полушубы, провозгласила:
– Вы, чай, не знаете, пошто я к вам наведовала?
– Конечно, нет, – почтительно ответил Василий, кладя на стол опорожненную ложку.
– Я к вам с жалобой вон на Миньку.
Василий, перестав жевать, насторожился, спросил:
– Чего он у вас набедокурил?
– Да вчера вечером он у нас в келье пошумел малость, а утром я хватилась хлебы месить, а в квашне-то с тестом лапти. Быть это рук Мишки, соседа вашего, да и Минька-то ваш с ним заодно.
Василий, не допускающий озорства в людях и держа детей своих в строгости, услышав такую жалобу, весь напрыжился:
– Это что же такое? – устремившись своим пронзительным взглядом в молчаливо присмиревшего и покрасневшего Миньку.
– В людях озоровать! Безобразничать! Запорю! Усмирю! Чтоб у меня больше этого не было! – дико выпучив глаза, прикрикнул он на растерявшегося Миньку. Видно было, как пальцы правой руки отца судорожно вцепились в ложку с намерением обрушиться на Миньку. – Вот пырнуть в рожу-то, и будешь знать. Ведь за вас не заручишься! Что вы более за глазами-то делаете! – продолжал грозно увещевать он сына. Минька униженно молчал, его человеческое самолюбие было подавлено перед Дарьей. Он в эту минуту с отвращением возненавидел Дарью, он досадовал на нее, что она не могла смолчать и так некстати вошла с жалобой. Хотя он и знал, что его проступок не так-то уж и велик, а в деле с лаптями он не виновен. Под эти размышления Минька чувствовал, как в его горле колючим репьем встала неожиданно нахлынувшая на него обида. Он перестал есть, он нетерпеливо ждал, когда окончится эта неприятная для него драма.
– Вот теперь и красней из-за вас, а ты моргай глазами-то! Отмалчивайся! – продолжая наделять укорами, выкрикивал отец, которые бомбовыми ударами действовали на психику Миньки.
Любовь Михайловна, жалея сына, сочувствуя его пришибленному состоянию, украдкой от отца мигала Дарье, чтоб та попридержала язык и пощадила ее Миньку. Дарья поняла это и раскаянно проговорила:
– Василий Яфимыч, лапти-то это не он положил в квашню-то, эт Мишка, у него озорства хватит, пакостник он извечный, – стараясь сдержать Васильев пыл, спохватившись, лепетала Дарья, держась за скобу двери, намереваясь уйти.
Дообедывали Савельевы в натянутом безмолвии и тишине, только слышны были, как ложки скребут по дну чашки, доставая густоту и куски мяса, да четкий стук тех же ложек о стол.
Мишку Креастьянинова дома тоже пожурили: «Что это на тебя все жалобы, то ты кого-нибудь просмеёшь, то в тесто лаптей накидаешь, в кого только ты такое дитятко растёшь? Каверзный из тебя человек получится, мы людям-то про тебя говорим, что ты у нас простой, а оказывается, ты с говнецом», – так назидательно увещевал отец Мишку.
– Возьми гребешок, да причешись, что у тебя волосы-то, как на страшном суду встали! – закончил назидание Мишке отец. А мать, когда к ним с жалобой приходила Дарья, только и сказала: «Он у нас такой бедовый и взбалмошный, что за ним глаза да глаза надо. Набедокурит чего-нибудь и не почаешь. Он, курносый бес, и нам надоел», – с такой непочтительностью отозвалась мать о своем сыне Мишке.
А вечером, когда их дочь Анка, готовившись к посиделкам, стала ухорашиваться перед зеркалом, дедушка не стерпел, чтоб не упрекнуть ее в непристойных, как ему показалось, движениях перед зеркалом:
– А ты не больно карячься перед зеркалом-то, да гляди, звук не испусти. Подбери ноги-то, что растопырилась, подол-то! Прикрой свое лоно, а то растопырилась – флору видно! Вот, наверное, и на святках вы перед парнями так же безобразно карячитесь! Гляди, девка! Как бы беды не нажить.
А до старших Крестьяниновых дошло, что на посиделках девки, израсходовав весь запас льняных мочек, от безделья принимаются за увеселительные игры и забавы с парнями, которые не обходятся без целования и озорства. Анка же во всем этом от подруг не отставала и не раз матери ее, Анне, бабы напоминали, что она у них девка гулливая. И до стариков слух этот дошёл, поэтому-то дедушка укоризненно и говаривал в лицо Анке:
– Вот девчонка растёт! Видать, не из робкого десятка! – и стыдя, упрекал ее:
– Ишь, до чего додумались! Целоваться с парнями! Да, может быть, у тово парня, с которым ты поцеловалась, не все дома! Это тебе, наверное, и невдомек!
– А ты будь построже, веди себя поскромнее, перед парнями-то не кобенься! – назидательно поддержал дедушку и отец Анки.
Такими безотвязными наговорами доводили девку до слез, она иногда из-за стола вылезала, стыдливо раскрасневшейся, не дообедавши, с появившимися на глазах слезами.
– Что, догулялась!? – не переставая упрекать, преследовали укорами Анку старики, стараясь выбить из нее все, что связано с молодостью и желанием повеселиться, как это извечно заведено у каждого в юности.
Василий Ефимович Савельев
В Новый год старшие из семьи Савельевых, придя из церкви от обедни, собирались к обеду. Василий, придя из церкви последним, раздевая свой знаменитый серый френч и разуваясь из бурок, дал команду:
– Саньк, пиши-ка скорее номерки, будем счастье вынимать, как положено в Новый год.
Санька, немедля ни минуты, принялся писать на маленьких бумажных лоскутках. На одном он написал «Новый год», на втором «Старый год», на третьем «Счастливый год», на четвертом «Несчастный год», пятый лоскуток оставил без надписи, что означало «Пустой год». Скрутив эти лоскутки бумажек, Санька, бросив их в шапку и потряхивая ею, он во всеуслышание крикнул:
– А ну, подходи и вынимай себе на счастье!
У стола около шапки собралась вся семья. Первому тащить из шапки номерок позволили самому маленькому из семьи – Володьке. С детской улыбкой на лице он потянулся рукой в шапку и вынул скрученную бумажку. Когда бумажку раскрутили, прочитали «Несчастливый год», все уныло переглянулись. Отец поспешил рассеять изумленье:
– И верно, ведь он только что избавился от беды, копейка-то немало придала ему несчастья, от которого он уже отделался, так что беда миновала.
Сам отец вытянул бумажку с надписью «Счастливый год», от чего он самодовольно улыбнулся. Саньке достался «Новый год», Миньке «Старый год», остальным кому какая. За обедом отец, восседая на кресле, как на семейном троне, на котором он чувствовал себя державно и властно, под воздействием вынутого им счастливого номерка, имея хорошее предрасположение духа во время обеда, разговорился:
– Эх, я чуть не забыл, ведь скоро у меня день ангела. Кажется, в три святителя? Я именинник-то? Так ведь, мамк? – обратился он к бабушке Евлинье.
– Так, так, сынок, ты народился как раз в праздник, и окрестили тебя в честь Василия Великого. Помню, холодище было несусветное!
– Ну, ведь не заморозили меня тогда во время крещения, вот я жив и здоров! – самодовольно и добродушно улыбаясь, отозвался Василий.
– Да нет, не заморозили. Покойный твой отец Ефим из жалости к тебе наказал твоему крестному, чтоб воду подогрели, а он не выполнил: чтоб ты был крепким, окрестили тебя в ледяной воде. Ну, это и к лучшему.
– Да, вот мне тридцать пять годов минет. Отец у меня умер, мне было двадцать восемь лет. Вон Ваньке было только два года, а дедушку Савелия я чуть-чуть помню. Был седенький старичок низенького росту. Говорят, был не характерный, своенравный и упрямый, как камень. После дедушки у меня сундучок в помин его остался.
Этот заветный сундучек, перешедший по наследству от деда, Василий оберегал, как свой глаз. В нем он держал деньги и документы. Ключ от сундучка держал не как некоторые, у себя на пояске, а клал его в укромное место в шкапу. Ключ этот никто из семейных не смел, да и не брал в руки. Он был, кроме хозяина, неприкосновенным. Должников же он записывал углем на стенах мазанки, записывая имена полуграмотным почерком. Василий унаследовал от деда и отца своего, непомерно твёрдый характер и крутой нрав. Он не допускал возражений и пререканий, и непослушания семьи, не допускал поблажек в бездельничестве в будни, требовал соблюдения праздников, посещения церкви во время богослужений. Он был истинным христианином, богобоязненно следовал законам религии. Его семья имела полную волю действий, но не выходя из рамок приличия, сохраняя целостность семейного очага и дома, не позволяя расточительства или урона хозяйству, чтоб было все гармонично и согласовано на пользу дела. Сам был сведущ во всех вопросах жизни. Детям своим он назидательно внушал: быть честными, трудолюбивыми и бережливыми, болеть душой о своем хозяйстве, всячески стараться к умножению добра, с людьми обращаться почтительно, но и не давать себя в обиду, когда дело коснётся напраслины или необоснованного поклёпа. Чтоб в семье была одна закваска, все за одного, один за всех. «Старайтесь и хорошего человека не обидеть, и плохому зря не досадить. Я же никогда не разорял птичьего гнезда и ни одна пичужечка не плакала от меня. Кто, войдя в лета, начинает смыслить, тот перед каждым действием должен основательно поразмыслить», – поучал он. Но не обходилось без ругани, ведь семья есть семья. Кто-нибудь по своей оплошности или по молодости своей, да и нарушит наказы отца. Тогда он начинает ругаться и журить провинившегося. «А не журить и не бранить виновного тогда что в семье и получится? Кавардак, да и только!» – поучал он. Страшен он в ярости и гневе. Когда кто-либо из семьи своим неблаговидным поступком выведет его из терпения, тогда пощады и милости от него не жди. В такие минуты в нем забурлит, заклокочет досада и зло, становится весь напыщенным. Яростью жилы на шее свирепо напрыщиваются, лоб сурово наморщинив, глаза наливаются кровью, кровь в надутых венах начинает бросками пульсировать, живчик около глаза начинает злобно подрагивать, зрачки дико суживаются, не предвещая ничего хорошего. В этот момент он теряет самообладание и готов ударить провинившегося, и чтоб сдержать это, он в ярости своей начинает злобно и очумело кричать:
– Усмирю! Изувечу! Башку размозжу! Дух вышибу! Кишки вымотаю! У меня рука не дрогнет!
От природы (он первенец) был левша. Левой рукой он не только умел лучше, чем правой, владеть топором и все делать, он также ей давал такого тычка, что редкий мог устоять на ногах. Хотя он характером-то сердитый, но жалостливый. Он обладал отзывчивым, снисходительным, иногда сентиментальным сердцем, всегда склонным к примирению. Во время доброжелательного, весёлого расположения духа он шутил, задорно смеялся, его добродушное сердце порой было склонно к сентиментальности, а иногда, когда расчувствуется в семейном деле, прослёзливался.
Аппетит у Василия Ефимовича исключительно хорош. Он говаривал: «В крестьянском брюхе топор изноет!» Он не отказывался ни от какой пищи, ни от кислой, ни от горьковатой, но не любил слишком горячую. И также говаривал: «Плох обед, когда хлеба нет! Щи да каша – пища наша!» Доев утром вчерашние слегка прокисшие мясные щи, он спрашивал у стряпухи-хозяйки, скоро ли поспеет завтрак. Хозяйка отзывалась перед бабами о нем так: «Есть за двоих, зато и работает за пятерых!»
Обедали Савельевы подолгу, почти по часу. За ужином он старательно оглядывал и разгрызал упревшие за день в печи податливые на зуб свиные кости, вымазанные в жиру пальцы экономно обтирал об голову, вымасливая волосы. Иногда он, видимо, и переедал. Дохлёбывая и доедая остатки после семьи, из-за стола он вылезал не торопясь, иногда разнося по всей избе дурной запах, признак явного переедания. В деловую пору он не любил за столом долго засиживаться. Поев на скорую руку, он поспешно вылезал из-за стола и с руганью обрушивался на семью за то, что не спешили вылазить:
– А вы дольше прохлаждайтесь за столом-то, рассусоливайте, солнышко-то в зады уперлось, а вы еще никак не наедитесь! Пора из дома вываливаться, люди-то, наверное, в поле-то давно наработались, а мы никак не вывалимся! – хлопотливо ворчал он на семью.
Пить чай он вообще не любил и семью, рассевшуюся за столом за чаепитием около ведерного самовара, обзывал чаёвниками, «и не надоест вам суслить-то», незлобливо надсмехался он над своей семьёй. Если и приходилось ему в чаепитии в субботу, так он предпочитал его не после бани, а перед баней, чтоб в бане лучше пропреть, никогда не прибегая к паренью в бане веником.
Он обладал искусством бриться в бане без зеркала. После бани любил попить холодного кваску. Он не хварывал, никогда не обращался к врачам, но однажды этот послебанный холодный квасок заставил его слечь в больницу. Он схватил ангину, которая чуть не задушила его. А дело было так.
Однажды в субботу, помывшись в бане, он распаренный и горячий сильно захотел пить, но дома квасу не оказалось. Он пошёл к соседям и спросил у Анны:
– Нет ли кваску испить? Дай, пожалуйста, умираю, пить хочу.
Та подала в ковше холоднющего крепкого, как брага, квасу. Василий, припав к ковшу, выпив почти весь квас, похвалил:
– Эх, хорошо, ядрен и крепок инда во рту дерет!
В ночи Василий почувствовал колотье в горле, ощутил щемящий горло колючий комок, мешающий глотать и придающий хрипоту голосу при разговоре. Домашнее лечение, припарки, не помогли. Пришлось поехать в больницу, впервые обратиться к врачу. Показываясь врачу, он жаловался: как ножами режет. Врач, осмотрев горло, сразу определил – в острой форме ангина. Его немедленно положили больного на койку, на лечение. Болезнь проходила в самой острой форме. Василию трудно было не только говорить, есть, но даже и дышать. Он был на пороге критического состояния, и только на третий день в горле несколько пообмякло, стало можно свободнее дышать, можно стало разговаривать и пропустить стакан теплого молока. «Я думал, меня никакая болезнь не возьмёт, а вот поди-ка, занемог, пришлось слечь», – говаривал он посетившим в больнице родным и знакомым.
В больнице Василию пришлось проваляться с неделю. После излечения. Для лечения на дому ему выписали порошков и микстуры. Будучи уже дома, принимая внутрь порошки, употребляя по ложке микстуры и держа около горла бутылку с горячей водой, Василий делился с семьёй впечатлениями, которые он получил в больнице во время лечения. Говорил: «Там есть одна врачиха, телом плоская, как доска, и на вид больнее больной! И как таким врачам только доверяют лечить людей, когда они сами себя вылечить не могут».
Через два дня продолжения лечения на дому все боли прошли, в горле не стало никаких болезненных ощущений, можно было и прекратить лечение, но он с аккуратной расчётливостью доел порошки и залпом допил микстуру, рассуждая: «Чай, не пропадать добру-то, за него деньги плачены!»
Под конец болезни у него в голове снова зародились заботы о хозяйстве. После полного выздоровления Василий снова занялся своими хозяйственными делами. Перво-наперво он в погребушке проверил наличие муки, которая за его отсутствием значительно поубавилась в ларю. Он решил отвезти три мешка ржи на мельницу. Собираясь и одеваясь потеплее, Василий долго копошился в печурках:
– Куда запхотили мои варьги, на мельницу ехать, а варьги не найду, хоть с голыми руками поезжай. Чай, сейчас не лето, на улице-то стужа, – ворчал он, ни к кому не обращаясь.
Часа через два он с мельницы вернулся, намолов мешок вико-овсяной смеси на посыпку скотине, а муки на хлебы смолоть не успел:
– Только было я засыпал рожь в ковш, хвать, ветер затих, мельница крыльями круть, круть и стала. Пришлось домой ехать, не будешь же там без дела торчать, да и в избёнке-то там не больно тепло, да у меня болезнь-то еще не совсем прошла! – пространно объяснял он причину возвращения с мельницы без муки на хлебы для семьи.
– Ужо на ночь снова пойду, может быть, смелю.
Чтоб не проходило время даром, Василий вволок в избу настывшую во дворе сбрую, принялся за ее починку.
– Чай бы не сразу все втаскивал, вишь, сколько холоду-то напустил. Втащил бы хомут, а шлею для другого разу оставил бы, – ворчала на него хозяйка. А Василий, не обращая внимания на жену, выйдя во двор, вскоре с шумом вворотил в избу сани, чтоб они пообтаяли и было бы возможным сменить у саней сломанный копыл. К вечеру сани и сбруя были отремонтированы и выволочены во двор.
Отец пригласил Ваньку поехать с ним за водой на озеро в «Хонькину » прорубь. Вворотив на салазки большую кадушку (тару из-под рыбы), отец с Ванькой выехали на озеро. Там им повстречалась Ванькина учительница Александра Ивановна. С учительницей Василий решил поздороваться за руку, приветственно сказав:
– Доброго добра, Александра Ивановна!
Он, придирчиво осмотрев свою руку, (достаточно чиста ли). К ее маленькой, нежно-мягкой ладошке приложил свою шершавую, как лист подсолнечника, слегка согнутую широченную ладонь, заискивающе улыбнувшись, осведомился:
– Как поживаете?
– Хорошо, спасибо! – ответила учительница.
– Ну, как мой сынок учится? – переключив свой взгляд на Ваньку, спросил Василий, – слушается ли? На уроках не балуется ли? – допытывался он.
– Всякое бывает, – не таясь и высказывая всю правду, отозвалась учительница, – иной раз из терпения выводит, да он не один, их целая компания. Задумают смеяться, вертеться и озоровать, ничем не удержишь.
– У меня чтоб этого больше не было! – строго предупредил отец Ваньку.
Федотовы. Ужин, приметы.
Федотовы готовились к ужину. В чулане Дарья чистила сырую картошку, готовила ее к варке в галанке. Хватилась спички искать в печурке, а их нет, затопить галанку нечем.
– А ты выгреби из печи жару, приложи к нему лучинку, подуй, она и воспламенится, – деловито порекомендовал хозяин Иван.
Пока картошка доваривалась, семья расселась на лавках за столом в доме. Дарья, разогревшись у галанки, в одном повойнике, разостлав на стол столешник, стала подавать еду. Налила в большую семейную деревянную чашку с почерневшими краями суровых щей из кислой капусты. Поставила на стол деревянную кустарную солоницу, положила каравай хлеба, и сама присела на допотопную табуретку, стоящую около стола поближе к чулану, где положено сидеть только хозяйке-стряпухе. Хозяин – Иван, хлебнув две ложки щей, видимо, они ему не понравились, обратившись к жене, сказал:
– А ты забели-ка молочком щи-то, и не жалей для такого случая.
– Ведь нынче сирёда, постный день-то, – возразила Дарья.
– Ну и что ж, что сирёде, все равно забели, я ведь с дороги-то прозяб, как поросенок, и проголодался, – настаивал Иван.
– Правда, мам, забели, – жеманно ухмыляясь, попросил и младший сын Санька.
– Я бы забелила, да и чем? Давеча заглянула в горшок, в котором молоко было, а в нем была бы хоть капелька! Все молоко вытекло, горшок-то оказался со свищем! – сокрушенно жаловалась Дарья.
– А как в голодные-то годы жили, небось не ждали, когда похлебку-то побелят, так ели, – укротительно для семьи высказалась Дарья, – так что и сейчас надо питаться вукороть. Молоко хлебать надо с убережью, вариться в своем соку, носить домотканое, донашивать старенькое, в долги не влезать, кабалу на себя не натаскивать, – назидательно поучая семью, продолжала она. Вот и ты, Иван, – обратилась она к мужу, – гляжу, на тебе рубаха-то грязная, а ты выверни ее наизнанку и не знать будет, что она грязная.
– Дело бают, что у бабы волос долог, зато ум короток, – поспешил обвинить жену Иван. – Разве выворачиванием дело исправишь? Стирать надо, а не выворачивать.
– А где мыло-то? Оно вон какое дорогое! – отговаривалась Дарья.
– Чай, уж на мыло-то у нас денег хватит, – не в свое дело сунулся было в разговор старших Санька.
– Ты свой длинный язык прикуси, перерыв дай ему, баить-то ты больно лютой. И не вмешивайся в чужой разговор, без тебя управимся! – обрушился словами, ошарашив, укротил Саньку отец.
– Уж больно он у нас речист и дерзок на язык-то! – поддержал отца Павел.
– Вдобавок и голос-то у тебя больно крикливый, как на базаре, словно продаёшь чего. Неужели не можешь потише! – высказала свое замечание Саньке и мать.
– Такой уж у меня разговор, – проговорил, оправдываясь, Санька.
– Ну и ладно тебе! – оборвала его мать, – иной говорун выговаривается, а этот и конца краю не знает, болтает и болтает, и все его очередь. А ты пуще лей! – назидательно упрекнула мать покрасневшего и присмиревшего Саньку, у которого из-за конфуза и обиды стало расплёскиваться из ложки.
– Ох, что-то у меня с этих кислых щей в брюхе заурчало, – оповестительно высказался Сергунька.
– Гляди, как бы у тебя заворот кишок не получился, – шутливо заметил ему отец. От этой шутки за столом все весело рассмеялись.
– Тебя, Сергуньк, чем хошь корми, ты толстый не будешь. Вроде и ешь помногу, а телом, как Кощей бессмертный, ни рожи, ни пуза, ни боков, и куда только у тебя все девается? Как в утке ноет, – высказалась о Сергуньке мать.
– У него все газами выходит, – шутливо заметил отец, – и верно, ты у нас, Сергуньк, костлявый, как ёрш, на тебе и мяса-то нет, одна кожа да кости.
– У него на ребрах-то можно играть, как палкой по забору! – не стерпев, сунулся опять с языком Санька.
– Ну, ты у меня повякай! – грозно предупредил его отец.
– Да разве я виноват, что я тощий и что у меня желудок постную пищу плохо варит. Если бы побольше молока и мяса, я бы не такой был! – оправдывался сконфуженный словами Сергунька.
– Ну, будет с вас, осталось манёхоньку в чугунке-то, только и жуете, когда только насытятся утробы ваши! – укоризненно упрекнула мать Саньку, Сергуньку и Паньку, старательно скребущих ложками по дну чугунка, доставая оттуда картошку с кусочками свинины.
Да, прост житейско-бытовой уклад деревенской жизни! Здесь все просто и самобытно. В хозяйственном отношении каждый предмет, инструмент и инвентарь имеет свое название и свое назначение, все идет чин по чину. Животных называют ласковыми именами: лошадь – «сынок», «Серый», корову – «жданка» или «Вечорка». Если нужно корову выгнать, кричат на нее «Тёла!». Овец называют «барашенькой», прогоняют, крича на них «Тря!». Козу называют «Зайка», прогоняют ее – «Цыба!». Свинью называют «Жуто-жутя», прогоняют ее «Асть!». Кур манят «цып-цып» – и «шишь!». Собаку манят к себе «Шарик, на-на-на!», «сыма!». Кошку – «кис-кис-кис!», прогоняют, крича «Брысь!»
За столом несколько приутихло, и чтоб нарушить неловкое затишье, отец проговорил:
– В поле снегу надуло, сугробы на ровном месте и дорогу передуло.
– Весной в роступоль воды много будет! – по-взрослому рассудив, заметил Павел.
– Не скажи, народная-то примета, что говорит: «большие снега – малые воды», – подметил отец.
– Да, в народе много примет, и они все сходятся, – заметила Дарья, – я вот и сама заприметила: если в Новый год звёздное небо – куры хорошо будут нестись,
Если в чистый понедельник падает снег – к грибам;
Если в Евдокии день красный, на дороге вода – лето будет ненастное;
Если в Евдокии будет капель – к урожаю огурцов;
Если весной сосульки длинные – затяжная будет весна;