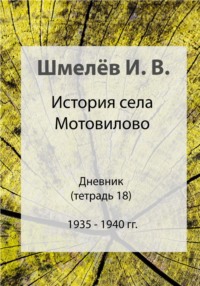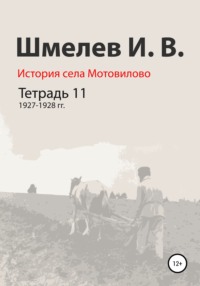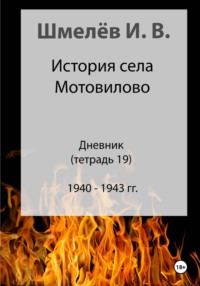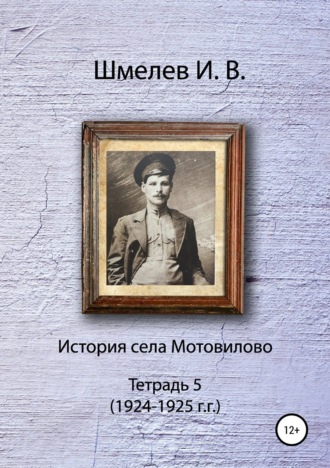 полная версия
полная версияИстория села Мотовилово. Тетрадь 5
Осмелев, Ванька отважился заглянуть и в машинное отделение, откуда обдало его разогретым воздухом, пахнувшим разогретым маслом. В центре помещения стоял огромный паровик, у которого двигались, как у паровоза, локти, вращая большое колесо-маховик, от которого в цех тянулся приводной ремень, передавая движение на пилораму, и к жернову мельницы, пристроенной к лесопильному цеху.
Отец, сложив мешки в помещение мельницы, сказал Ваньке:
– Ты пока тут побудь, а я съезжу в лес за дровами. У них такой порядок: кто приехал на помол, тот должен привезти воз дров для котельной, – пояснил отец Ваньке и, сев на телегу, уехал. Совсем пообвыкнув, Ванька с интересом стал расхаживаться по всему заводу. Больше всего его завлёк паровик, приводящий в движение все рабочие приспособления завода. Он наблюдал, как механик с маслёнкой в руке смело подошёл к машине и стал лить масло меж движущимися ее частями.
Ванька так увлёкся наблюдением, что не сразу отозвался на окрик отца, когда он вернулся из лесу с дровами. Он сгружал с телеги дрова. Их подхватывали кочегары и целиком бросали в пышущее жаром хайло топки. Размол ржи прошёл быстро. Ванькин отец едва успевал засыпать ее в ковш. Вскоре, но уже под вечер, пять мешков, туго набитых теплой еще мукой, были уложены на телегу, и Ванька с отцом снова ехали по лесу, направляясь домой. Дорогой отец спросил Ваньку:
– Ну как, нагляделся на лесопилку?
– Да, пап, особенно мне понравилось глядеть на паровик, он похож на паровоз, только не на колёсах!
На обратном пути они припозднились. Подъезжая к Жданчихе, стало смеркаться. Между сосен замелькали огоньки кордона, послышался предупредительный собачий лай. Подъехав к самому кордону, отец и Ванька были свидетелями происходящей тут сцены. Отец приостановил лошадь.
Старший лесничий Сердитов, где-то в лесу, задержал мужика с возом ворованных тонких бревен. Он вынудил мужика подъехать с возом к кордону и свалить дрова. Мужик виновато подчинился приказу, стал торопко развязывать воз. Стоя в сторонке, обтирая носовым платком свою бритую голову и вспотевшую шею. Сердитов, заметя, что у мужика в руках топор, строго приказал ему:
– Бросай топор на землю!
Мужик, бросив топор, стал сваливать бревнышки около ворот кордона.
– Видно, и сейчас в лесу-то строгость? – проговорил Ванька, когда они снова тронулись в путь.
– А как же! Если в лесу допустить халатность, то мужики весь лес изведут, и так уж где был лес «в небо дыра» там – поредело.
На другой день запускали ребятишки бумажного змея в поле на гону. Панька ворчливо поучал Саньку с Ванькой, как надо держать змея в руках, чтоб он в воздухе не кувыркался и взлетал выше, но дело с запуском не клеилось. Змей, подхваченный порывистым ветром, бешено спирально метался в воздухе, трепал длинным мочальным хвостом и с размаху грохался о землю, ломался. Панька, видя, что его труд пропадает даром, сердился и ругался, был готов исколотить своих помощников.
– А я зато вчера на Прорыве был и на паровик нагляделся! – как бы в оправдание и с целью подзадоривания провозгласил Ванька.
– Паровик паровиком, а вот змея запустить не сумели. Вишь, змей-то разбился в клочья, – упрекнул его Панька.
– А может, ты, Паньк, не правильно его смастерил, – заметил ему Санька.
– Все правильно, и планки обтёсаны тонко, и пута отрегулирована, и хвост вроде бы увесист, а змей разбился в щепки. Пошли в село, другой надо мастерить.
После обеда Панька, позабыв о змее, нашёл новую забаву. Он, где-то раздобыв ключ от замка, привязал его на веревочку, а на другой конец веревочки привязал гвоздь. Нащеборчил в ключ селитры со спичек, ставил в отверстие ключа гвоздь. Ударил шляпкой гвоздя об угол избы, грохнул выстрел – забавно и задорно для других.
– А стрелять-то можно и не только из ключа, а и из сучка можно, – возвестил Панька своим товарищам, считавшийся изобретательным и большим любителем в вопросах пиротехники.
– Поди, сопри из дома коробок спичек, и я вам покажу, как это делается.
Ванька сбегал домой, вернулся со спичками. Панька, отыскав в полу крыльца сухой сучок, проделал в нем гвоздем неглубокую дырочку, нащеборчил в нее селитры, вставил в дырку гвоздь и с силой ударил по шляпке гвоздя поленом. Звуковой эффект получился тот же, что и из ключа.
– Так-то так, а завтра ведь нам в школу! – известил товарищей Панька. Лето кончилось, пора снова за ученье. И тут же Ваньке вспомнилось, как он пятилетним малышом впервые пришёл в школу с братом Санькой, не учиться, а так, поглядеть, как учатся. В тот день во втором классе, в котором учился Санька, всех второклассников стригли машинкой. Учительница Надежда Васильевна предложила и Ваньке: «Давай, Вань, и тебя постригу, а то видишь, как у тебя кудри-то разрослись, даже в глаза лезут». – «Его и так «кудрявым бараном» прозвали», – провозгласил кто-то из учеников. Ваньку усадили на табуретку, и учительница принялась его стричь. На пол валились клочья свалявшихся кудрявых волос. Домой он пришёл без волос, сняв шапку еще на пороге, он бойко возгласил домашним:
– Вот я и голышом стал!
Страстно Ванька не любил, когда кто-либо, перебирая на его голове кудрявые волосы, говорил: «Вот какой кудрявый барашек». Ему также вспомнилось, как в прошлом году, учась в первом классе, он со всей детской наивностью спросил у учительницы Александры Васильевны:
– А правда бают, что если букварь сжечь, а пепел от него съесть, то сразу можно грамотным быть?
– Кто это тебе наплёл такую чушь? – возразила учительница.
– Моя бабушка Евлинья, – ответил Ванька.
– Чудачка твоя бабушка. Хоть и карандаш-то проглоти, и все равно в этом толку мало. Нужны в учении старание и прилежность, и вдумчивость, вот тогда можно надеяться на познание в грамоте, – назидательно заключила она.
Ванька, внял назидательным словам учительницы, со всей прилежностью и усидчивостью стал вникать в ученье. Он стал интересоваться чтением книжек, его увлекли и картины, купленные к Пасхе и развешенные у них в верхней избе: «Адам и Ева в раю» и «Избиение младенцев царем Иродом», «Страшный Суд». Учился Ванька в школе не из последних, да и вперед не выбивался. Он не любил выскочек, которые в ученье не столько понимают, сколько своим болтливым языком стараются выхвалиться перед учительницей, вроде Саньки Федотова, но Ванька предпочитал находиться в «золотой середине».
По праздникам и вечерами Ванька не старался, дело – недело, выбегать на улицу, а увлёкшись чтением, целыми уповодами просиживал за книжками. Товарищи его Панька, Санька даже досадовали, что он не выходит с ними гулять на улицу, а он задался целью прочесть все книжки, имеющиеся в их домашней библиотечке, и те, которые покупал и приносил домой Ванькин брат Санька.
Морозы. Смирнов и Панька Варганов
Почти с самого начала рождественского поста и все «филипповки» установились зимние холода. Вначале по полям и в селе разгуливалась снежная пурга, по огородам у бань и около сараев намело высоченные сугробы снега. Около строений с подветренной стороны образовались полукруглые пустые от снега выемки, а с обратной стороны набросало сугробы вровень с крышей. Ребятишки, пользуясь естественными горами, катались с них на салазках, на досках и сползали просто на пузе.
Потом небо выяснилось, к ночи похолодало, а утром ударил сильный мороз. Морозная погода установилась надолго. Стояли ясные декабрьские дни и лунные морозные ночи. Давят землю лютые Никольские холода. В такие длинные декабрьские ночи в селе все замирает, на улицах ни души. Мороз усмирил все живое. Присмиревшие воробьи на ночь забиваются под застрехами соломенных крыш. Даже собаки приутихли. Они, забившись в укромные уголки или спрятавшись где-то под сенями, примолкли, в такую стужу им не до лаянья. Свернувшись клубком, они скулят от холода и голода. Редкий хозяин вспомнит о ней, чтоб накормить ее на ночь. В общем-то, собачья жизнь не то, что кошачья, которая в тепле и в сытости.
В такие невыносимые стужи по ночам во дворах дрожмя–дрожит скотина, особенно та, которой хозяин забывает подбросить в ясли клок сена на ночь. Придавленная морозом декабрьская ночь рассасывается медленно и ждешь не дождешься, когда часовые, первые петухи, пропоют полночью, вторые чертей разгонят, а третьи солнышко встретят. А морозы беспощадные давят и давят, от них трескается земля, разваливаются лошадиные шовяки на дороге, лопаются стекла в окнах, трещат тесовые крыши на строениях, издавая гулкие звуки, похожие на ружейные выстрелы. Под ногами хрустит зернистый, рассыпчатый снег, морозный воздух чист, прозрачен и звукопроницаем.
В такую лютую стужу в лесу поглубже забираются медведи в берлогах, углубляют и утепляют норы лисицы, подальше в чащобы забиваются зайцы. Птицам всех тяжелей – куда ни сунься – холод, куда ни заберись – подкарауливает враг. Да и волку нелегко, он не накопил, как медведь, с осени жиры, ему каждый день надо добывать себе пропитание. Поджав от холода хвост, он воровски подкрадывается к селу, внюхивается и прислушивается к скотиньему мыку и собачьему лаю, норовит где-то забраться во двор и стащить животину.
Принёс Василий Ефимович со двора в избу беремя дров и со злобой грохнул их около галанки, аж посуда в чулане зазвенела. С досады он, нахмурив брови и наморщив нос, обрушился на семью:
– Сколько раз было сказано, не загромождайте проход во дворе разными салазками и прочим скарбом. В темноте я шлепнулся, видите, какой волдырь на лбу вскочил! Инда искры посыпались из глаз, и вы все не понимаете, хоть кол вам на голове теши! – перекипая в злобе, он сам затопил галанку. Несколько поуспокоившись, он, не обращаясь ни к кому, известил:
– В Пустынь я завтра не поеду, займусь-ка я починкой сбруи.
– Да куда бы ты поехал в такой-то мороз, ай, чтоб обморозиться, – поддержала его и Любовь Михайловна.
– Пойду за хомутом и обротью, а ты, Ваньк, пока шило разыщи, – распорядился отец, а сам вышел на двор. Со двора он принёс хомут, седелку и оброть. В тепле вся эта ременная упряжь сразу же покрылась морозной белью, от нее потянулась седая испарина. Железные удила оброти побелели, как снег. Захотелось Ваньке лизнуть их, лизнул и едва отодрал язык. На языке появилась кровь, а на железке осталась прилипшая кожица.
– Ну, что, лизнул? – упрекая, надсмехнулся над ним отец, – давай сюда шило, держи вот выделанную кожу, я буду нарезать пошивку. Да не заслоняй башкой свет-то! Уж не открыта ли у нас дверь-то, что-то вдруг засквозило. Притвори, беги, дверь-то, что стоишь, словно отупелый! Чуешь, холод бросается в избу! – Ванька, заторопившись, бросился к двери, задел ногой за скамью, та с грохотом повалилась на пол, от боли он заморщился, захромал, зажимая рукой ушибленную коленку.
– Что ты, как пьяный, земля-то тебя не держит, – с досадой закричал отец снова на Ваньку.
– Ты уж его совсем зарвал, защипал, затыркал! Вздоху ему не даешь, он уж не знает, что делать! – с жалостью к сыну заступилась мать за Ваньку.
В сенях кто-то зашебуршил, в темноте отыскивая дверную скобу. Дверь с силой рванули, у порога появился товарищ с детства Василия – Николай Смирнов. В избе на полу заклубился холодный воздух, он седой волной хлынул вперед, растаял под лавкой.
– Ну и пробрало меня! До самых костей прозяб, и руки закоченели! – ставя в углу ружье, проговорил Николай, проходя вперед и усаживаясь у стола на диван. За хозяином последовала его собака, шмыгнувшая в избу, когда Николай входил. Она, блаженно скульнув, улеглась под столом у ног хозяина. Кошка, спасаясь от собаки, взъерошившись, зафыркала, окрысившись, забилась под лавку, приняла оборонительную позу, предупредительно и грозно замяукала, готовая в любую минуту броситься на собаку и выцарапать ей глаза. Хотел в избе внедриться песий запах, да ненадолго. Лежавшая на печи бабушка Евлинья скоро распочухала, что запахло псиной, распорядилась с печи:
– Да выпихните собаку-то в сени, а то псиной в нос так и прет!
– Чай, пускай погреется! – жалея собаку, проговорил Николай, – она тоже до кишок продрогла.
После этих слов бабушка, проворно спрыгнув с печи, забежав в чулан, схватила там сковородник и безжалостно и бесцеремонно выдворила собаку в сени. Кошка, изгорбатив спину и высоко задрав хвост, выскользнув из-под лавки, победоносно сопроводила собаку до порога. В сенях жалобно заскулила собака.
– Вот так у вас в избе-то поднатоплено, жарища инда уши палит! – проговорил разогревшийся Николай, – а на улице морозище, того гляди, уши отпадут. Недаром у нас в погребе у кадушки с капустой все дно выперло! – известил о своих хозяйственных потерях он. – Вон, поглядите-ка, окошки-то как закалябило! Как лубошные стали, – чтобы о чем-то вести разговор, обратил внимание всей Савельевой семьи. Все дружно, как будто не видывали, взглянули на окна: зернистый иней запушил все стекла, разукрасив их растительными разнообразными узорами.
– Вот бы когда таракан-то морозить! – продолжал разговор Николай.
– А тебя откуда Бог-то несет в такой-то холод? – поинтересовался, наконец, Василий Ефимович.
– Да ходил в лес проверять капканы на волков, я их еще с осени поставил. Вот и ходил, проверил. Однажды мне в капкан медведь попался, так что есть расчёт.
– Ну и как? – полюбопытствовал Василий.
– Пока пусто, один, видимо, попадал, да плохо, кончик лапы в капкане остался, а волка нет. Видимо, отгрыз лапу-то и смылся. Дело бают, охота пуще неволи. У тебя, Ефимыч, нет ли чего подвыпить после такого прозябания. Забежал было в потребилку, а она уж заперта!
– Как нет, есть, – отозвался Василий, откладывая в сторону недоремонтированный хомут. – По правде сказать, у меня еще и спиртик от делёжки водится, сейчас выну. Для друга добра не жалко.
Василий Ефимович слазил в подпол, вылез оттуда с четверткой спирта. Усевшись за стол, он стал угощать своего товарища.
В детстве жил Николай от Василия через дом. Вместе они росли, вместе играли, вместе занимались разными детскими забавами. Их сдруживало то, что оба они имели сходные характеры и действенные наклонности, оба обладали находчивостью и живым темпераментом. В 1907 году Василий Ефимович женился, а Николай Федорович, похоронивший отца и сманенный дядьями, решил поехать с ними и поискать счастья на жительство в город Астрахань. Уезжая из родного села, он, идя за телегой, в которой находился его скарб, когда выехали из села, остановился, расстегнув пуговицы, спустил штаны и, бесстыдно выставив оголенный зад в сторону села, стал похлопывать ладонью себе по заду, приговаривая:
– Вот, вот тебе! Чтоб я обратно в тебя вернулся! – заговорщически и бессовестно заклинал он свое родное село. Село в ответ таинственно молчало, только слышно было, как где-то в дальней улице надрывно лаяла собака.
После трехлетнего пребывания в Астрахани, не прижился там. «Лучше быть в селе первым, чем в городе последним», – рассудил он. Так Николаю суждено было снова вернуться в свое село. Он с переживанием, самоосуждением и с великим стыдом приближался к родным краям, идя со станции ночком, по дороге на которой три года тому назад допустил непочтение по отношению к родному селу. И вот теперь, сгорая от стыда и раскаяния, он под благовидным предлогом остановился и, маскируясь ночным полумраком, что никто его не видит (жену он отослал вперед), со слезами на глазах, широко перекрестившись на белеющую в темноте церковь, припав на колени, наклонившись, поцеловал землю. Он взял с дороги горсть земли, положил ее в рот и клятвенно стал ее жевать. Он раскаянно плакал, всхлипывая от нахлынувшего на него чувства. Он проговорил:
– Прости меня, земля родная! Я твой раб и возвращаюсь навсегда!
Проснувшееся село манило его мигающими огоньками и петушиным криком. Озарённая церковь издали ему показалась в виде стоявших рядом двух человек: высокая колокольня – мужик, а летний храм с его широким куполом – баба. Николай, взяв в руки чемодан, веселее и увереннее зашагал к селу. Каждое дерево, каждый дом возрождали в нем воспоминание о детстве.
Село встретило его приветливо и дружелюбно. Перед ним представились все те же избы с дырами во фронтонах и подпольными окошечками. Ему казалось, что улица идёт и показывает ему свои дома. Вот дом Крестьяниновых, вот дом Савельевых, вот Федотовых, а вот и бывший мой, но не принадлежащий больше мне.
На родину Николай Смирнов вернулся не один. Он в Астрахани женился, уговорив за себя одну прелестную вдовицу, Ларису, которую он соблазнил своим приглядчивым видом, своим ухарством и еще тем, что он нахвалился перед ней, что у него в Мотовилове приличный дом, две лавки и мельница.
Пока Николай разъезжал по чужой стороне, мать его померла, а дом, в котором оставалась Николаева сестра, она продала Рыбкину Александру, а для себя приобрела маленькую избёнку.
После того, как Николай прибыл в дом сестры, его жена Лариса стала упрашивать, чтобы он показал ей лавки, о которых он так соблазнительно говорил там, в Астрахани.
– А вот они, – ничуть не возмущаясь, скороговоркой, как палкой по забору, проговорил Николай, – вот передняя лавка, на которой я сижу, а вон боковая, на ней ты сидишь. Чего тебе еще надобно? – не спуская пронзительного взгляда с оробевшей и ошеломленной жены, – пойдём наружу и мельницу покажу.
Он взял жену за руку, повел на улицу, со всей серьёзностью сказал ей:
– Вон, гляди, и мельница мелет, – указывая бородой на детскую игрушку, укреплённую на крыше халупы, которая торопливо и бойко с шумом вертела крылышками на ветру.
– Ну что, ведь не обманул я тебя, все у меня есть?
– Нет, не обманул! – с трудом выдохнула из себя разобиженная Лариса.
– Ну, ты довольна мной, ай нет? – испытующе спросил, наконец, он Ларису.
– Довольна! – ответила она, глотая слезы досады и разочарованья.
– Ну, тогда давай-ка я тебя крепко-накрепко поцелую, да и будем с тобой жить-поживать и добра наживать.
Хотя Лариса и разочаровалась спервоначалу, а потом пообвыкла, дело обходилось и без лавок и мельницы. Любила она Николая своим женским горячим сердцем, да и было за что любить его. Николай обладал многими положительными качествами. Живой, сызмальства смелый, боевой, находчивый, подвижный, бравый, чисто выбритый, черноватые усы лихо подкручены. Чтоб не так одолевала борода ростом, он секретно натирал ее ореховым отваром, а усы регулярно смазывал репейным маслом. Из–под лихо надетой набекрень фуражки у него свисал на лоб черноватый чуб. Он обладал и чисто акробатическими способностями. Еще в детстве он научился стоять на голове, ходить на руках, умудрялся на велосипеде ездить задом наперёд. На службе он научился виртуозно владеть и действовать саблей. Хвалился «Я саблей на лету муху разрублю. Овладел искусством верховой езды, по-казачьи скосив на бок голову. Так что есть за что его любить бабам. Недаром прозвали его Астраханский черкес. А бабы таких любят, их и хлебом не корми, только бы мужик был таким, каков Николай. Он в бабьем вопросе промаху не давал, так что, по его словам, бабы на него не в обиде.
На второй же день по прибытию из Астрахани Николай поспешил друга детства Василия Савельева навестить. Он внезапно появился в доме Василия.
– Разрешите войти! – гаркнул Николай.
– Просим милости! – Ба! Кого я вижу! Николай Федорыч, ну и ну! Гляди-ка, кому не пропасть-то! – обрадовано удивлялся Василий внезапному появлению Смирнова.
– Ну, давай скорее лапу-то! – весело улыбаясь, протянул Николай свою руку Василию для здоровления. Поздоровались. Присели к толу.
– Давно ли на сей земле? – поинтересовался Василий.
– Вчера ночью. День с хозяйством знакомился, жену в курс деревенской жизни вводил, и вот я к вам.
– Ты разве женился? – полюбопытствовал Василий.
– А как же, чай не век холостяком быть, – отшутился Николай. – Такую бабенцию себе отхватил, только ну.
– Ты что же без бабы к нам-то пришёл? – спросила Любовь.
– Да они еще с сеструхой моей как следует не познакомились!
– Где это ты столько времени пропадал да снова заявился? – продолжая расспрашивать, спросил Николая Василий.
– Как где, в Астрахани, рыбы досыта ел и с собой немножко прихватил. Вот вам астраханский подарок. – Николай вытащил из широких карманов галифе с десяток воблин, положил их на стол. – Эх, а самовар я для себя привёз, просто чудо. Называется он «Самовар–троица».
– Эт как так?
– А очень просто. В нем можно одновременно чай вскипятить, щи сварить и кашу приготовить, потому что он имеет в себе три отделения, а труба одна.
– Это интересно! Весьма!
Вот и теперь, в декабрьскую стужу 1924 года Николай не мог пройти мимо, зашёл к Василию.
Хотя и выпили Николай с Василием, но разговор у них как-то не клеился. Николай, обычно находчивый в словах, на этот раз что-то не находил слов для дельного разговора. Пока они сидели за столом и вели между собой невяжущийся разговор, Ванька тем временем с детским любопытством осмотрел Николаево ружье. Он даже осмелился потрогать рукой за резные курки, понюхал дула.
– Смотри, не взведи курки-то, да не выстрельни, оно заряжено, – предупредил Николай, заметя, что Ванька смело повел себя около ружья, а сам стал скучновато позёвывать.
– Ванек, отойди от ружья, – строго приказал отец.
Упёршись глазами в потолок, Николай без всякой надобности мысленно стал считать сучки в потолочинах, потом взором своим стал следить за полётом мухи.
– Пойду! Я и так, кажется, у вас загостился, – спохватившись, проговорил Николай. Он, встав из-за стола, взял ружье и, повесив его на плечо, направился к двери. Вдруг с улицы послышался тревожный крик, беготня и смятенье. Встревоженные, Николай и Василий поспешили выбежать из избы. Толпа мужиков и собаки гонялись за забежавшим в село волком: кто с топором, кто с вилами, кто просто с колом. Николай, сразу же оценив обстановку, сдернув с плеча ружье и подцыкнув своего Пирата, азартно включился в погоню.
– Вы бегите ему наперехват, а мы с Василием встретим его вот здесь у мазанки. Мы его живьем возьмём, он какой-то невлашной, вялый, уж не раненый ли? – командовал Николай мужиками, наблюдая, как волк, скрываясь от толпы, колченожит по освещённой луной улице. Взбаламученный толпой и собаками, волк бросился было в сторону, но там ему преградили путь другая стая собак.
Видя, что со всех сторон окружён, волк повернул обратно. Разъярённые собаки смело хватали волка за голяшки, норовя зубами вцепиться в шею. Волк, оскалив зубы, яростно отбивался от собак. Он изловчился даже рвануть какую-то не в меру осмелевшую собачонку, от которой в стороны полетели клочья шерсти. Метким выстрелом дело завершил Николай. Волк остервенело огрызнулся, подпрыгнул в воздух и рухнул на снег.
– Давай салазки, – обратился Николай к Василию, – мы сейчас его взвалим на них и отвезём ко мне.
Мужики из толпы стали со всеми подробностями рассказывать Николаю, как обнаружили около дворов волка, как за ним погнались, как собаки сбежались, учуяв зверя, как загородили ему дорогу и не дали убежать ему в лес, как заметили, что он прихрамывает на заднюю ногу. Николай стал осматривать трофей и только сейчас заметил, что задняя лапа у волка не в целостности. Самой оконечности ноги – лапы нет. Николай мысленно прикинул, что это тот самый волк, который побывал в его капкане. В толпе мужиков был и Панька Варганов. Заметив Николая с ружьем, Панька поспешил незаметно удалиться. Он боялся Николая из-за того, что он может сейчас отомстить ему за тот случай, который произошёл весной у окна Федотовой избы (а у Николая рука не дрогнет). Он под горячую руку может не только волка убить, но выстрелом подвалить и обидчика. Он злопамятный и обиды никому не прощает. Недаром он говаривал: «Кто мне досадит, тот сам себе не рад будет!»
Николая брала досада на то, что дом после матери сестра не могла удержать и продала, пока он был в Астрахани. Он никак не мог смириться с тем, что ему приходится жить в маленькой халупе, а в его потомственном доме проживает чужой человек Александр Рыбкин. Весной этого года, вечерком, когда Николай возвращался с ружьем из леса, вздумалось ему зайти в этот дом, где протекло его детство, и поговорить с новым хозяином об условии доплаты за возвращение дома опять к Николаю. Но Александр, видимо, на переговоры ни в какую не пошёл. В результате произошёл спор, переросший в скандал с угрозами. Николай был вынужден выйти на улицу. Он, остановившись у угла соседского дома Федотовых, продолжал вести перебранку с Александром, который стоял в темноте проёма сенной двери. В разгаре спора Николай был доведен до того, что, сдернув с плеча ружье, он выстрелил по направлению Александра. Послышался визг Авдотьи и проклятья Александра. Их сын Ромка побежал к сроднику Паньке Карвайкину–Варганову и вехнул ему о случившемся.
Этот неожиданный выстрел взбудоражил вечернюю тишину, всполошил народ. Из приближенных домов стали выходить мужики – кольцом окружили Николая. В спор включились защитники Александра, а сам Александр невредимым выстрелом остался на крыльце. Он оттуда кричал, но подойти к Николаю боялся.