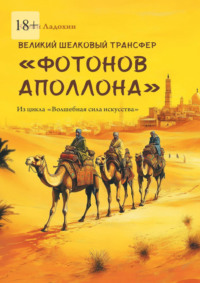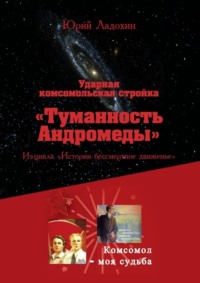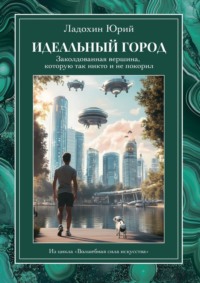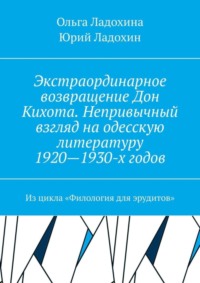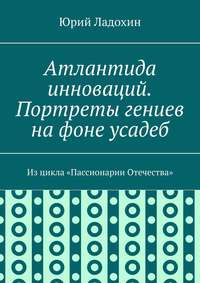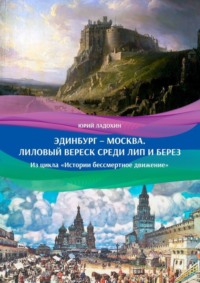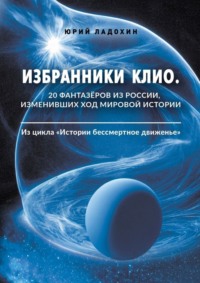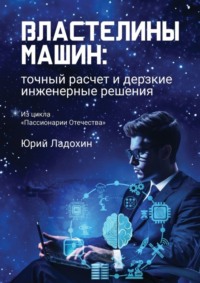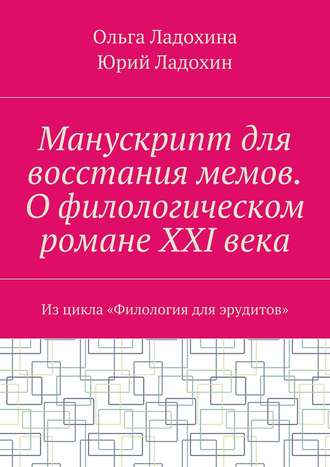
Полная версия
Манускрипт для восстания мемов. О филологическом романе XXI века. Из цикла «Филология для эрудитов»
Автор «Виллы Бель-Летра» пытается, похоже, донести до читателя и свои сокровенные мысли о тесной связи личности писателя и созданного им текста. Как представляется, в этом вопросе он отталкивается от мысли знаменитого критика Виссариона Белинского, который писал, что стиль литературной личности, его слог – это «сам талант, сама мысль. Слог – это рельефность, осязаемость мысли; в слоге весь человек, слог всегда оригинален как личность, как характер. Поэтому у всякого великого писателя свой слог: слога нельзя разделить на три рода – высокий, средний и низкий: слог делится на столько родов, сколько есть на свете великих или по крайней мере сильно даровитых писателей. По почерку узнают руку человека и на почерке основывают достоверность собственноручной подписи человека; по слогу узнают великого писателя, как по кисти – картину великого живописца» (из статьи «Русская литература в 1843 году»).
А. Черчесов, развивая мысль пламенного творца диатриб XIX века, думается, несколько смещает акцент, иронично заменяя становящееся архаичным понятие на более современное – «Текст, когда он не врет, всегда обнаружит в себе то зерно, что в нем прорастет вопреки пожеланиям автора. Это как с отпечатками пальцев: если уж взялся за что-то, пеняй на себя» [Черчесов 2007, с. 372]. «подпись» «дактилоскопия»:
У писателя есть и оригинальная концепция преимуществ достижений дактилоскопии, причем, похоже, с тонким экивоком в сторону почитателей загадочных сторон дзэн-буддизма: «Просвещенная старушка Европа обнаружила удивительную близорукость, когда упорно отказывалась признать отпечатки пальцев важнейшей уликой, по которой можно определить личность преступника с погрешностью, близкой к нулю. Между тем на Востоке, не обремененном судебной казуистикой и вечными сомнениями в очевидном, испокон веков было принято вместо подписи использовать под текстом заключаемого договора узор собственной кожи с перста. Возможно, оттого, что он более соответствовал природе замысловатых иероглифов, а может, потому, что куда полнее воплощал идею личного следа, нежели казенная буква или трактующий ее, всяк по-своему (да к тому же подверженный соблазну подделок), чернильный росчерк пера» [Там же, с. 12].
Видимо, не желая расставаться с обретенной доктриной выдающих человека с головой следов частей тела, автор романа попытался (не без помощи иронии, конечно) представить себе в качестве обличающего отпечатка уже весь (!) организм: «– Трепло, – сказала девушка, сев за стол и закидывая ногу за ногу (сердце в Суворове чуть всколыхнулось, заерзало, но, не поддерживаемое овацией организма, оскорблено надулось, сбив шаг). Пошарив в соломенной сумке, она извлекла серебряный портсигар и прикурила пойманную в кольцо презревших помаду губ коричневую сигаретку. Трудно с ходу сказать, какой из нее литератор, но вот художником Адриана определенно была: не каждый способен доходчиво рисовать своим телом слова. Например, слово «томный»…» [Там же, с. 98].
Насмешливый тон (правда, местами с оттенком ерничества) при оценке нешаблонных способностей упомянутой Адрианы был подхвачен собратом по перу – французским писателем Жан-Марком Расьолем: «– Что она пишет? – спросил Суворов, чтобы сгладить неловкость минуты… – Прозу? Стихи? – Посередке: рифмованная проза психопатки, понявшей, что давно мертва. На редкость талантливо, хотя и банально. Впрочем, что такое шедевр, как не талантливая банальность психопата? Верно?» [Там же, с. 108].
В другом эпизоде, продолжая тему едкий острослов Расьоль поведал о необычной (гендерной) трактовке легендарного афоризма античного математика и инженера: «Дайте мне рычаг, и я переверну весь мир, сказал сгоряча Архимед, не подозревая, что рычаг этот испокон веков – женщина. Перефразируя древнего грека, искушенный в амурных занятиях Фабьен мог бы сказать: дайте женщину, и мир перевернется сам собою…» [Там же, с. 337]. «Cherchez la femme»,
Автору романа «Марбург» ироничный постулат о том, что представительница прекрасной половины человечества может опрокинуть земные устои, видимо, мог показаться излишне радикальным. Но вот чтобы скорректировать запись в архиве Нобелевского комитета – почему бы и нет? Вместо фамилии, истоки которой ведут начало всего-то от овоща, белый корень которого помогает укреплять стенки капилляров, могла бы появиться другая, более значимая, связанная со священным сиянием, исходящим от Вседержателя.
Не верится? – тогда слово С. Есину: «В эту свою новую поездку в Германию Пастернак взял молодую жену Евгению Лурье. Почему этой милой молодой женщине вдруг не понравился Марбург? Она явно не видела мир глазами своего мужа. Может быть, она и не вполне понимала, за кого выходила замуж. Сокол виден по полету, ранние планирования Пастернака она, видимо, не восприняла как увертюру к долгой и мощной творческой жизни. Имя его к моменту их женитьбы уже было на слуху, а она вдруг предложила своему жениху взять его фамилию, стать Борисом Лурье» [Есин 2006, с. 166].
Но, пожалуй, не будем строги к словам молодой привлекательной особы. Она вполне могла знать наполненную религиозным смыслом историю происхождения своего рода и гордиться его древними корнями: «Как свидетельствует история, дочери и зятья знаменитого Раши (аббревиатура от имени рабби Шломо бен Ицхак), родившегося в 1040 г. во французском г. Труа и умершего в 1105 г., создали родовое имя, которое увековечило их выдающегося отца и зятя. Было решено, что с тех пор каждый ребенок, рожденный у потомков Раши, будет добавлять к своему имени выражение Ле-ор-йа, означающее на иврите „посвященный свету Всевышнего“. С годами это выражение преобразовалось в Лурия и более распространенное – Лурье. Так появилась одна из первых фамилий в еврейской средневековой истории» (см. сайт от 07.08.2017 г.). http://www.jewage.org
Постойте, но может тогда поэту без иронии нужно было отнестись в предложению родовитой супруги?.. Нет, и это вполне объяснимо: настоящий художник, должно быть, всегда предчувствует свою мощь, свою возможность напрямую вести диалог с самим Творцом:
Примечательно, что имя знаменитого поэта и прозаика тесно связано с Германией. И не только из-за того, что будущий создатель одного из самый известных романов о русской революции и гражданской войне в 1912 году учился в Марбургском университете. Сама фамилия писателя произошла от названия деревни Пастернак (немецкое название Вальдхоф), расположенной вблизи Восточной Пруссии, в районе города Венгожево на севере Польши. По сведениям историков, в начале XIII века окрестные земли захватил Тевтонский орден, который в 1398 году построил в этих местах каменный замок Ангербург в готическом стиле.
Впервые же в Германию Б. Пастернак попал в 1905 году в возрасте пятнадцати лет для занятий музыкой с профессором Ю. Энгелем по консерваторскому курсу. Первая поездка за границу принесла ему ощущения чего-то эфемерного, даже сказочного: «Все необычно, все по-другому, как будто не живешь, а видишь сон, участвуешь в выдуманном, ни для кого не обязательном театральном представлении. Никого не знаешь, никто тебе не указ… Скоро я привык к Берлину, слонялся по его бесчисленным улицам и беспредельному парку, говорил по-немецки, подделываясь под берлинский выговор, дышал смесью паровозного дыма, светильного газа и пивного чада, слушал Вагнера» (Б. Пастернак, из автобиографического очерка «Люди и положения»).
А вот интересно, сохранилась ли романтическая восторженность подростка-поэта и через семь лет, в юноше, который приехал в Марбург изучать философию? – похоже, да: «Он стоял, заломя голову и задыхаясь. Над ним высился головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и восьмисотлетнего замка. С десятого шага он перестал понимать, где находился. Он вспомнил, что связь с остальным миром забыл в вагоне и ее теперь… назад не воротишь»» [Есин 2006, с. 157 – 158].
Мечтательность органично растворяется в стиле «Охранной грамоты», а виртуозное мастерство писателя автор «Марбурга» охарактеризовал фразой: «Чтобы всем стало ясно, как писал прозу небожитель и что приблизиться к подобному сегодня не получается, невозможно» [Там же, с. 248]. Чтобы аргументировать столь лестный отзыв, С. Есин приводит отрывок: «… сады пластом лежали на кузнечном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень. Я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумление, когда в том же обалденье, в каком я собирался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когана… Его интересовали мои планы» [Там же, с. 248 – 249].
Однако, мы несколько отвлеклись от нашего предмета – иронии. А ее в тексте «Марбурга» предостаточно. И опять же связанной с Германией. Начнем, пожалуй, с ее тесных контактов с Россией: «Я лечу в Германию, русские цепью прикованы к этой стране. О царях, их женах и „немецких специалистах“ не говорю. Недаром, кстати, вся революционная эмиграция сидела по берлинским и мюнхенским кафе. Где потом у нас Ленин издавал „Искру“?» [Там же, с. 55].
Продолжим описанием немецкой основательности: «Но пора переступить порог квартиры фрау Урф, находящейся на третьем этаже. Что ни говори, а время – это самый изысканный мастер и эстет. За опять же стеклянной матовой дверью, ведущей с площадки общей лестницы, расстелилась зона иной жизни – старинных вещей, массивных средневековых шкафов, портретов бюргеров в скромных кафтанах и бюргерш в пестрых тюрбанах… В столовой надо обратить внимание на стол, за который мог усесться весь магистрат ратуши или большая семья, – стол человек на двадцать, и никому не будет тесно, и никому не будут мешать локти соседей. Резные стулья, придвинутые к столу, наверное, лет на сто его моложе – в этом доме все меряется столетиями, – но и их крепости и ширине сидений можно позавидовать. У бюргеров, предков румяной и пышной фрау Урф, были просторные, мощные зады» [Там же, с. 99 – 100].
Не забудем и тевтонскую пунктуальность: «Кафе „Корона“ на рыночной площади, напротив фонтана со скульптурой святого Георгия, я нашел быстро. Полюбовался еще раз на ратушу – петух на часах с позолоченным циферблатом запоет и захлопает жестяными крыльями ровно в шесть, когда я начну лекцию. Немцы точны, как швейцарские часы» [Там же, с. 251].
Когда же доходит до описания немецких коллег по цеху словесности, в арсенале литературных приемов у С. Есина уже не ирония, а окрашенный дружеской привязанностью (впрочем, не всегда) юмор. Это о Барбаре, ведающий в местном университете славистикой: «Барбара все-таки удивительный человек. Такую любовь к предмету своего вожделения я видел только у пьяниц, если те любят, то любят. Не было русского, специально приезжавшего в Марбург или коротко, транзитом его проезжающего, которого бы она не приветила. Собственно, поэтому она знает всю московскую литературную элиту, а кто из писателей или поэтов не стремится завернуть в Марбург!» [Там же, с. 250].
А это портрет Людвига Легге, председателя Нового литературного общества Марбурга: «По своему обыкновению, он был в шляпе, которую, правда, сразу же снял, как только увидел меня в зале. Господин Легге несколько фатоват. Из нагрудного кармашка его пиджака всегда полувысунут платочек расцветкой под галстук, сколько бы галстуков на протяжении недели хозяин не менял. Его шляпа такой же индивидуально мифологизированный предмет туалет, как черный шарф на плечах директора петербургского Эрмитажа господина Пиотровского и как белый – на плечах кинорежиссера и актера Никиты Михалкова. Их шарфы, носимые и зимой и летом, ни от какого ненастья не спасают, так же как шляпа господина Легге совсем не для защиты его продолговатой головы. Она просто вечная ее принадлежность. Может быть, он даже спит в ней» [Там же, с. 253 – 254].
От С. Есина своеобразную эстафету иронических аттестаций титульной нации попробуем передать автору «Неверной» – эмигранту со стажем (переехал в США в 1978 году). Однако своеобразие момента передачи эстафетной палочки заключается в том, что немцы (а не англичане, как обычно представляется) – это и есть фактически фундаментальная основа американской нации. По данным национальных переписей, примерно от 42 до 58 миллионов американцев (17 – 20 процентов общего их числа) имеют полное или частичное немецкое происхождение. Для сравнения, английское происхождение имеют только 28—35 миллионов жителей США.
Да что там доли, существует легенда, согласно которой немецкий едва не стал государственным языком Соединенных Штатов, и для этого решения законодателям не хватило лишь одного (!) голоса. Поводом для ее появления стала петиция, поданная 9 января 1794 года несколькими немецкими переселенцами из Вирджинии в Палату представителей США с запросом о принятии законодательного акта, позволяющего публиковать законы также и на немецком языке. Она была отклонена 42 голосами против 41 голоса «за» (см. сайт от 19.05.2004 г.). SPIEGEL ONLINE
А теперь посмотрим, не просматриваются ли в саркастическом паноптикуме отличительных черт «среднего» американца родовые немецкие корни. Вот, к примеру, вопрос об эрудиции и начитанности: «Я однажды, разлетевшись, говорю своему собеседнику на вечеринке: «А помните у Джека Лондона, в рассказе «Тысяча дюжин»…”. Он вдруг помрачнел, отвернулся и исчез в толпе. Потом мне объяснили, что я сморозила жуткую бестактность. С незнакомым нельзя говорить о прочитанном. Если он не читал, он решит, что вы хотели его унизить, обнаружив его невежество» [Ефимов 2006, с. 225].
Ого! Так о чем же остается говорить с незнакомым янки? – вот рекомендации стреляного воробья-эмигранта: «Только не о себе – это ему заранее неинтересно. Расспрашивайте о работе, семье, откуда родом, куда ездил в отпуск. О себе они готовы разливаться часами. И спорт, конечно, спорт. Как можно скорее выучите названия нескольких футбольных и бейсбольных команд, список чемпионов, имена знаменитых игроков» [Там же, с. 225 – 226]. Есть и список железобетонных табу: «Но всякая культура, живопись там, литература, музыка – ни-ни, полная запрещенка. Даже география. Если вы проговоритесь, что знаете название столицы Норвегии, с вами могут порвать отношения» [Там же, с. 226]. его его
Смешно? – вообще то не очень… Так что вам решать, насколько сильны немецкие корни в среднестатистическом американце и в какой мере недалек от истины в своих шутках Михаил Задорнов…
А так как главная героиня «Неверной» преподает русскую словесность в американском ВУЗе, было бы, видимо, логичным продолжить ироничное исследование характерных черт «гринго», теперь уже юношеского возраста, представив отрывки из студенческих сочинений: «Печорин считал донжуанство сильной слабостью своего организма… Главные черты Онегина: скептицизм, индивидуализм и бегство от действительности… герой полон сексуально-бытовых подробностей, но принимает грозный вид беспощадности… С годами пушкинский эрос целиком проникся логосом и обрел устойчивость и внутренний свет» [Там же, с. 227]. Вы скажете: в российских школах и ПТУ таких сочинений можно насобирать мешками – и будете, наверно, правы; но не в ВУЗах же…
Однако насмешливый взгляд И. Ефимова останавливается не только на явлениях американской действительности. Диапазон его иронических «зацепок» весьма обширен и многоцветен. Это и едкая оценка российской экранизации дневниковых записей жены Ивана Бунина: «Он так и называется „Дневник его жены“. Там намеренно перепутаны даты, изменены имена, но общая канва сохранена. Вас и Галину Кузнецову играют две московские красавицы. Они старательно пытаются изобразить интеллигентность и тонкость чувств, но выговор безжалостно выдает их, и сразу понимаешь, что в детстве обе носили на шее не крестики, а пионерские галстуки» [Там же, с. 305].
И еще один гендерный выпад (в США за него вполне, наверно, могли привлечь за неполиткорректность), но, похоже, связан он с чем-то личным: «Женская память ничуть не слабее мужской. Но она так забита обидами на мужчин, что на исторические, математические или географические сведения уже не остается места. Женщина-историк – большая редкость, а женщина-философ, кажется, еще не рождалась» [Там же, с. 439]. Неизбитое мнение автор «Неверной» имеет и на вопрос о природе деспотизма: «Тиранить людей вообще приятно – даже по мелочам. Но тиранить с благородной, возвышенной целью и ради их собственной пользы – это уже такое наслаждение, от которого отказаться просто невозможно» [Там же, с. 401].
Следующее высказывание писателя явно пришлось бы не по душе ярым сторонникам идеи всеобщего равенства: «Каждому открыт вход в Музей Мироздания. Но не каждому покажут запасники и золотые кладовые» [Там же, с. 402]. Ну, а в этой фразе не поймешь, чего больше: беззлобного подтрунивания над коллегами по литературному сообществу, или выстраданного пророчества: «Мы не владеем поместьями, замками, заводами. Зато владеем СЛОВОМ. Так как эту собственность нельзя отнять-конфисковать, новым революционерам не останется ничего другого, как ставить нас к стенке» [Там же, с. 438].
Зарецкий, некогда буян,Картежной шайки атаман,Глава повес, трибун трактирный,Теперь он добрый и простойОтец семейства холостой,Надежный друг, помещик мирныйИ даже честный человек:Так исправляется наш век![Пушкин 2005, с. 154].При сих словах он осушилСтакан, соседки приношенье,Потом разговорился вновьПро Ольгу: такова любовь![Там же, с. 123].И впрямь, блажен любовник скромный,Читающий мечты своиПредмету песен и любви,Красавице приятно-томной!Блажен… хоть, может быть, онаСовсем иным развлечена[Там же, с. 116].Меж тем, как мы, враги Гимена,В домашней жизни зрим одинРяд утомительных картин,Роман во вкусе Лафонтена…Мой бедный Ленской, сердцем онДля оной жизни был рожденКонец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.