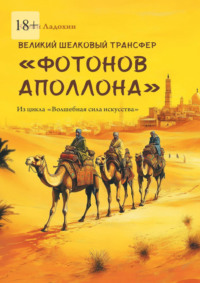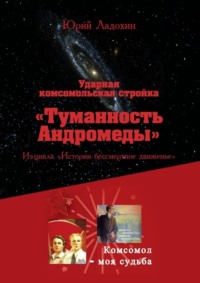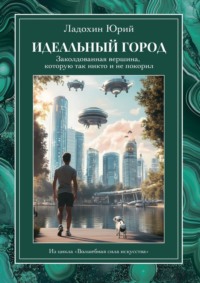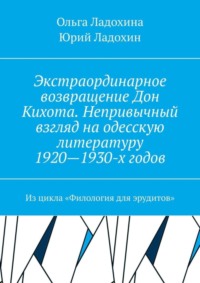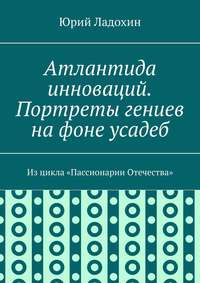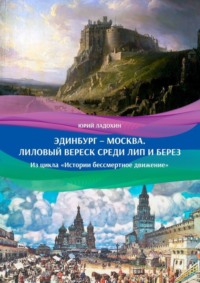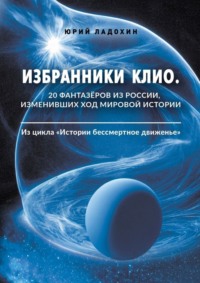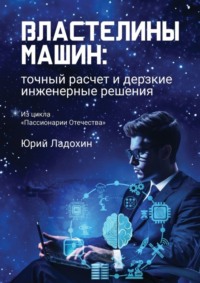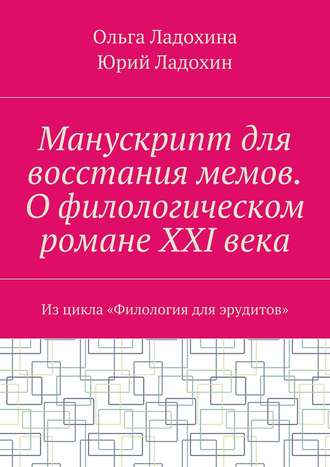
Полная версия
Манускрипт для восстания мемов. О филологическом романе XXI века. Из цикла «Филология для эрудитов»
После небольшой передышки (передышки ли?) вернемся вновь к размышлениям автора романа о трансцендентальной (т.е. выходящей за пределы обыденности) сущности усилий художника слова: «Ну а талант, о котором горазды болтать речистые критики, на практике – всего только нервозное расточительство обладателя кусочка шагреневой кожи, усыхающей по мере того, как надвигается на тебя осознание нестерпимой, неопровержимой, ненадежной и непостижимой подлинности сущего, в котором тебя ровно столько, настолько тебя же и нет» [Там же, с. 81].
Не слишком оптимистично? – но никто и не обещал жизнеутверждаюших песен хора им. В. Локтева. Еще один взгляд на жизнь по-взрослому: «Мы добровольцы, думал он, разминая в пальцах билет, добровольцы своих поражений. Пассажиры бесчисленных поездов, увозящих нас лишь туда, где мы и есть только мы, на какие бы расстояния ни удалялись от себя в попытке стать хоть самую чуточку больше…» [Там же, с. 42]. Или еще, о неизбывных попытках избежать диалога со столь близким (ближе разве Орест и Пилад) собеседником: «… Я убежден, что ни один человек не может до конца понять собственные свои уловки, к каким прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания» [Там же, с. 63].
Устами любящего пофилософствовать дяди Густава (единственного оставшегося в живых родственника главной героини романа) А. Черчесов пытается передать свое видение распространенного, до парадоксальности банального, либретто жизненного пути: «Подлость жизни не в том, что она завершается смертью, а в несоответствии – всегда вопиющем – многообещающего зачина с концом всякий раз дурно сыгранной пьески по партитуре пошлейшего водевиля. В начале отмеренного тебе отрезка, вплоть до первого занавеса, венчающего мимолетную юность, ты безусловен, единственен и неповторим, все другое – не то и не ты. В середине спектакля ты единственный лишь для себя и один из толпы – для всего остального. А в канун самой развязки ты вдруг понимаешь, что был вписан в строку вульгарной комедии мелкой, крошечной запятой» [Там же, с. 586 – 587].
Если таковы суждения о жизни, то чего же ждать от размышлений о прямой ее противоположности? К примеру, о лихорадочных, и почти всегда бесполезных, потугах того, чьи дни приближаются к финалу: «Удивительно все-таки, до чего суетлив человек, когда он забирается в тупик своей жизни! В нервозных и бледных попытках дорисовать наспех свою судьбу проступает обидное неумение подготовить достойную концовку, что не может не сказаться на самом авторитете финала: того и гляди, траурный, гордый мундир для прощального марша рискует слюняво обляпаться суматошными кляксами междометий и всхлипов» [Там же, с. 37].
И о нежданных, но только на первый взгляд, педагогических амбициях «старухи с косой»: «Смерть, как ни крути, есть главное предательство жизни. и терпеливый репетитор, долдонящий бестолковым ученикам очевидную, в общем-то, истину, что всякий наземный, поверхностный смысл обязательно, в полчаса, будет схоронен (причем многажды – их же руками) в не очень глубокой бессмысленности ритуала, который с минуты кончины не случайно и есть „для всех прочих“ торопливо-единственный смысл» [Там же, с. 37]. Хладнокровный
Парадоксальные суждения автора «Марбурга» С. Есина, так уж получилось, связаны воедино с размышлениями о судьбе очень известных людей. Это и незаслуженно вытравляемый из памяти потомков автор самого знаменитого труда по политической экономии (хотя, похоже, понятно почему: тома «Капитала» по своему бунтарскому мессиджу превосходят мощь тысяч килограммов тротила): «Боже мой, какое это счастье – свободное праздное время. Насколько прав блестящий экономист Маркс, затоптанный ныне (ему приписали еще и политическое исследование), утверждая, что свободное время – основное богатство человека» [Есин 2006, с. 227]. Но вы скажете: парадокса что-то не проглядывается. А он, похоже, в самом конце фрагмента: «Только отсюда возникает искусство. И, что еще важнее, – сама жизнь, даже если хотите, ее страдания» [Там же, с. 227].
Второй герой – тоже философ (но в отличие от Маркса, приверженец ее идеалистического направления) глава Марбургской школы неокантианства Г. Коган: «В маршрут подготовки лекции не вошел еще один важный адрес: Universitatsstrasse, 62/1. По нему когда-то проживал кумир юного Пастернака Герман Коген. Философия – самая безжалостная из всех наук или искусств, как кому заблагорассудится считать. Здесь выживают только сильнейшие и первооткрыватели. И как ни в какой другой науке, быстро исчезают эпигоны и толкователи» [Там же, с. 245].
С этим теоретическим утверждением не приходится спорить, но парадокс в том, что в исторической практике фраза упорно диссонирует с фактами подавления инакомыслия самых одаренных: насильственным отравлением великого Сократа, казнью 460-ти философов-конфуцианцев в эпоху династии Цинь, беспардонной высылкой в сентябре 1922 года из Петрограда в Германию на «Философском пароходе» Николая Бердяева, Ивана Ильина, Семена Франка и других крупнейших мыслителей России. «выживают только сильнейшие»
Третий персонаж «шкатулки парадоксов» автора «Марбурга» – Борис Пастернак, на примере прозаического творчества которого С. Есин пытается выдвинуть свою гипотезу своеобразного взаимодействия в паре «автор – герой»: «Роман, конечно, не набор конкретно происшедшего с автором, это лишь случай, „зернышко“, которое обрастает подробностями других историй и фантазий. Автор – не герой. Здесь еще надо решить вопрос: не пишет ли автор, как правило, все свои истории с точностью „до наоборот“? Может быть, он сочиняет именно то, чего в жизни не случалось, чего он только жаждал? В этом смысле „Доктор Живаго“ не героическая ли конструкция судьбы автора, рефлектирующего по вполне благополучной собственной судьбе?» [Там же, с. 131].
С непривычного ракурса и без лакировки образа Нобелевского лауреата смотрит С. Есин и на его взаимоотношения с Советской властью и на место в этой цепочке «притяжений – отталкиваний» знаменитого романа. По мнению писателя, стихия Пастернака – это «… интеллигентски-мещанский быт. Интересовала ли его история? Во-первых, своя собственная, талантливейшим образом описанная в „Охранной грамоте“, „Людях и положениях“, официальная – „Девятьсот пятый год“, „Спекторский“ и „Лейтенант Шмидт“ и другая, так сказать, гражданская лирика в трагически-субъективном исполнении – „Доктор Живаго“, интеллигентский эпос о революции. Опять же первые – здесь наш национальный поэт первопроходец – стихи о несравненном Сталине; их заметили и приняли, а с „Доктором Живаго“ вышла осечка – не поняли…» [Там же, с. 93 – 94].
Но, пожалуй, больше касается виртуозной писательской техники Б. Пастернака. В сформулированном же автором художественными средствами обвинении большевизма в преступном развязывании гражданской войны – разобрались, думается, и сразу. «не поняли»
Что же касается поэтики романа, есть интересные рассуждения на этот счет литературоведа Игоря Сухих: «В пору работы Пастернака над книгой молодые писатели Литературного института в шутку противопоставляли две поэтики: „красный Стендаль“ и „красный деталь“ (воспоминания Ю. Трифонова). „Красный деталь“, показ персонажа в действии, в колоритных подробностях, считался предпочтительнее, современнее суммарно, обобщенно, в авторской речи воссоздающего психологию героя „красного Стендаля“. Повествователь в „Живаго“ – „красный Стендаль“. В ключевых точках сюжета рассказ преобладает над показом, прямая характеристика – над объективным изображением» (из статьи «Живаго жизнь: стихи и стихии (1945 – 1955. „Доктор Живаго“ Б. Пастернака)», журнал «Звезда», №4, 2001 г.).
Чтобы обосновать свое утверждение, исследователь приводит отрывок из «Доктора Живаго: «Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой. Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете» (Там же).
Чистота и искренность, и с этим, пожалуй, согласятся все, – одни из самых привлекательных достоинств человека. И, как представляется на первый взгляд, чем больше таких достоинств, тем больше прогнозов на счастливую личную жизнь. Ан нет… Это кажется парадоксальным, но автор «Неверной» утверждает прямо противоположное: «Мы устаем от грехов и слабостей наших возлюбленных, но мы так же устаем от их достоинств. Достоинства давят, заставляют сравнивать возлюбленного с собой, выпячивают наши слабости, несовершенство. О, пусть бы кто-нибудь вслух сказал, что это нам нормально – уставать друг от друга! Пусть бы перестали взваливать на нас эту непосильную ношу – требование вечной и неизменной и неослабной любви!» [Ефимов 2006, с. 33].
Эту тему писатель продолжает в главе, посвященной непростым отношениям Александра Блока и Любови Менделеевой: «Дело в том, что в те времена книги, стихи, родители, учителя, священники учили молодых людей любить один раз в жизни. Это считалось похвальным и достойным: раз полюбив, вступить в брак и крепко захлопнуть в сердце все ворота и калиточки, через которые могла бы проникнуть новая любовь. Вы можете себе представить, каким страхом окрашивалось каждое зарождавшееся чувство в отзывчивых сердцах? Не про это ли пишет юный Блок в своем письме – „мне было бы страшно остаться с Вами… на всю жизнь“?» [Там же, с. 237].
Пожалуй, у современного читателя эти опасения будущего великого поэта выглядят чрезмерными, можно даже заострить – архаичными. Но тогда… И. Ефимов, понимая терзания молодого человека, думается, оценивает ситуацию хладнокровно, с позиций много повидавшего человека: «Лирический поэт имеет право воображать, что все, что происходит в его душе, – уникально и неповторимо. Он не догадывается – не хочет знать – о том, что такой же страх болел в сердцах миллионов мужчин всех времен и народов. Что именно из него вырастали нравы, обычаи, законы, лишавшие женщину свободы. Свободы отвергнуть любящего, уйти от него, увести с собой рожденных детей. Греки запирали женщину в гинекей, мусульмане – в гарем, русские – в терем. Но ведь любовь к несвободной женщине – это так тускло, убого» [Там же, с. 237].
Казалось бы, налицо нерешаемая задача класса Великой теоремы французского математика XVII века Пьера Ферм. Но белых пятен на Земле все меньше; меньше их стало и в ойкумене царицы наук: в 1995 году теорема Ферма была доказана обожающим парадоксы профессором Принстонского университета Эндрю Уайлсом. Свою жизненную лемму – «теорему Любви» А. Блок, тоже умеющий мыслить нестандартно и бесстрашно, решил на 92 года раньше (впрочем, надо быть объективным, до него такого рода озарения посещали другие дерзновенные умы): «И вот наш поэт – вслед за провансальскими трубадурами, за Данте, за Петраркой – придумывает – нащупывает трюк, который кажется ему выходом из безнадежного тупика: он возводит возлюбленную на пьедестал! Она как бы остается свободной, он все время твердит ей о том, что она всевластная госпожа и может распоряжаться им, как ей вздумается. Но с другой стороны – попробуй убеги с пьедестала» [Там же, с. 237]. а (даже, скорее, «Любови»),
«Теорема» решена, «трюк» вполне удался, но еще лучше, похоже, удались стихи, посвященные возлюбленной:
Вот только каково в этой затейливо выстроенной схеме самой Королеве? Ей – слово: «Вы, кажется, даже любили – свою фантазию, свой философский идеал, а я все ждала, когда же вы увидите меня, когда поймете, чего мне нужно, чем я готова отвечать вам от всей души… Но вы продолжали фантазировать и философствовать… Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо… Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и… скучно» [Ефимов 2006, с. 236].
Любовь Менделеева – узница своего престола, но парадокс, видимо, в том, что заключение в этом престижном Высоком замке грёз, пусть даже на первых порах, было лестным: согласитесь, далеко не каждой женщине посвящаются такие чудные стихи. Однако золотая клетка так и остается узилищем, несмотря на ослепительный блеск металлического кружева его деликатных оград. Но погодите, ведь путь на свободу из заоблачной башни нашла бы любая птица… Ну хотя бы сокол.
Дальше речь пойдет именно о нем: «Охотничий сокол находится в полной власти своего хозяина. Он прикован цепочкой к его перчатке, на голове у него – колпачок, глаза всматриваются в мрак и пустоту. Но изредка наступает момент, когда колпачок снимают, цепочку отстегивают, и в свободном и яростном полете сокол устремляется за пернатой добычей. Точно так же и мы проводим большую часть жизни во мраке, в полной власти Хозяина, пославшего нас в этот мир. И точно так же бывают редкие моменты, когда мы нужны нашему Хозяину свободными. Мы взлетаем, мы яростно машем крыльями, мы радостно устремляемся в небесную высоту. Но где же наша добыча? Не эта ли вспышка счастья, которая сопровождает каждое наше свободное свершение?» [Там же, с. 440 – 441].
Каждый, наверно, мог бы представить себя на месте готового к стремительному полету сокола, желающего всеми силами сбросить ненавистный колпачок, закрывающий доступ к свету. Но только вот иногда безудержное стремление образованного слоя населения во что бы то ни стало увидеть появление мифологической богини утренней зари оборачивается явлением с мало предсказуемыми последствиями: к примеру, прибытием к месту событий грозного корабля, носящего той самой богини (видимо, нетрудно догадаться, ). имя какое
Чтобы утверждение не выглядело умозрительным, приведем отрывок из письма главной героини «Неверной» пламенному революционеру Александру Герцену: «Через пятьдесят лет после Вашей смерти Ваши любимые лозунги победили, скверы и площади украсились Вашими бюстами, собрания Ваших сочинений заполнили библиотечные стеллажи. Но, проходя по бывшей Морской, которой было присвоено Ваше имя, я невольно вспоминаю слова жившего здесь когда-то писателя – впоследствии такого же изгнанника, как и Вы: „И как могло случиться, что свет, к которому всегда стремилась русская интеллигенция, оказался светом в окошке тюремного надзирателя?“» [Там же, с. 74]. {имеются в виду – Liberte. Egalite, Fraternite} {Владимира Набокова}
Излишний романтический флер при оценке действительности приносит досадные сюрпризы не только энтузиастам социальных перемен. По мнению И. Ефимова, среди его восторженных жертв, как ни странно звучит, – и добропорядочные родители-мечтатели: «Внушать своим детям с младенчества высокие недостижимые идеалы – самый верный способ разбить им сердце и искалечить на всю жизнь» [Там же, с. 219]. Писатель пытается надоумить воспитателей с рассудительностью отнестись и к особенностям эволюции характера своих чад: «Ребенка легче полюбить, потому что душа его мягка и прикосновение к ней всегда приятно. Потом душа затвердевает в характер и давит на тебя всеми своими буграми и предрассудками в тесном пространстве семейной жизни» [Там же, с. 220].
Два парадокса от автора «Неверной» связаны с основополагающими категориями Времени и Памяти (что не удивительно в свете того, что Иосиф Бродский называл И. Ефимова продолжателем великой традиции русских писателей-философов).
В первом случае прозаик вступает в своеобразную дискуссию с одной замысловатой восточной мудростью: «Украшение человека – мудрость, украшение мудрости – спокойствие, украшение спокойствия – отвага, украшение отваги – мягкость» Если приверженцы индуизма причудливым образом пытаются связать в логическую цепочку, казалось бы, прямо противоречащие друг другу человеческие качества, то писатель XXI века пытается разобраться с этим вопросом в системе координат никогда не текущей вспять реки Времени: «Главное украшение человека – его завтрашний день. Это некий нераспустившийся цветок, полный надежд, мечтаний, свершений. Поэтому-то дети, у которых так много завтрашних дней, пленяют нас безотказно. И наоборот, старики, умирающие, приговоренные, внушают только безнадежную тоску» [Там же, с. 137]. (из книги «Древнеиндийские афоризмы», составитель А. Сыркин).
В главе, посвященной Владимиру Маяковскому, главная героиня романа самой себе заданный вопрос, у кого больше остаться в памяти человечества, дает вполне парадоксальный ответ: «Свет помнит только тех, кто посмел пожелать, потребовать заведомо }. От мира, от людей, от себя. Но что же невозможного потребовал Маяковский? И от кого? Да, он требовал невозможного от женщин: чтобы они предавались ему душой и телом, а он бы при этом остался в полном подчинении у ненаглядной Лили. От требовал невозможного от начальства: чтобы оно не только разрешало ему разъезжать по заграницам, заводить романы с неблагонадежными красавицами, проводить ночи за игорным столом, но еще и покрывало любые его расходы. Он требовал невозможного от языка, от речи: чтобы она порвала свою зависимость от правды и смысла, свелась, если надо, к последнему, предельному футуристическому тыр-быр-мыр, но при этом продолжала волновать человеческое сердце» [Там же, с. 395 – 396]. возможностей невозможного {курсив наш
Хлестко написано, ярко? – пожалуй. Справедливо ли? – тут некоторые сомнения… Думается, не стоит исследовать степень субъективизма этих оценок – в конце концов каждый из нас волен в своих пристрастиях. Попробуем проследить ход дальнейших рассуждений героини: «Ну а от себя? Потребовал ли он чего-то невозможного от себя? Моя мысль рыскала и металась, как лодчонка в бурной реке, стукалась о берега, черпала воду то носом, то кормой. И вдруг ее будто вынесло на широкий спокойный разлив. И я поняла ясно-ясно, как при вспышке ракеты: да, потребовал! Не от себя, а от своего Творца. Бессознательно, инстинктом, с юности, не укладывая в слова, яростным порывом – он отбросил, отказался принять главную часть Творения: неизбежность старости и смерти» [Там же, с. 396].
Ну, а дальше – практически оратория во славу мятежника из когорты истово верующих в «чудо воскресения»: «Мы все покорно остаемся в своих камерах, мы знаем, что старость и смерть неодолимы. Мы можем даже сердиться на бунтаря, тревожащего нас своими безнадежными попытками вырваться на волю. Мы будем то насмешливо, то возмущенно обсуждать его нелепые усилия, царапанье гранита ногтями, битье головой о решетки. Но забыть мы его не сможем. Он станет беглецом-легендой. И рано или поздно мы признаем – согласимся – поверим, что погиб он не от обид, измен, поношений, непонимания. Если где-то действительно есть Книга судеб „Вся земля“, то следственный протокол этой жизни, хранящейся там, должен кончаться простой фразой: „Убит при попытке к бегству“» [Там же, с. 397 – 398].
О люди! Все похожи выНа прародительницу Эву:Что нам дано, то не влечет;Вас непрестанно змий зоветК себе, к таинственному древу:Запретный плод вам подавай,А без того вам рай не рай[Там же, с. 271].Враги его, друзья его(Что, может быть, одно и то же)Его честили так и сяк.Врагов имеет в жизни всяк,Но от друзей спаси нас, боже![Там же, с. 106].Чем меньше женщину мы любим,Тем легче нравимся мы ей,И тем ее вернее губимСредь обольстительных сетей[Там же, с. 99].Описывать мое же дело:Но , панталоны, фрак, жилетВсех этих на русском нет; словА вижу я, винюсь пред вами,Что уж и так мой бедный слогПестреть гораздо меньше могИноплеменными словами,Хоть и заглядывал я встарьВ Академический словарь[Там же, с. 25].Тебя скрывали туманы,И самый голос был слаб.Я помню эти обманы,Я помню, покорный раб.Тебя венчала коронаЕще рассветных причуд.Я помню ступени тронаИ первый твой строгий суд(А. Блок, из цикла «Стихи о Прекрасной Даме», 1902 г.).1.4. «Боюсь: брусничная вода // Мне б не наделала вреда» (ирония как признак душевного здоровья)
Чтобы победить «непослушные» машины, представителям человеческой расы, помимо мощного оружия и продуманной стратегии, несомненно, потребуется и немалые запасы здоровья. Конечно, в те времена медицина, как представляется, будет уже вооружена и достижениями генной инженерии, и технологией имплантации искусственных органов, и другими новациями Франкенштейнов XXI века.
Впрочем, видимо, и элементарные правила поддержания хорошего самочувствия никуда не денутся. Знаменитый русский художник Василий Поленов как-то сказал, что «главные медикаменты – это чистый воздух, холодная вода, пила и топор». Видимо, он имел в виду свои плотницкие занятия в лодочной мастерской в своем имении Бёхово Тульской губернии, расположенной на берегу Оки.
Но этой, похоже, только первый слой. Думается, в слове зашифровано и другое значение – острый язычок, которым славился прославленный создатель «Московского дворика». Вот только несколько его ироничных, а порой и едких высказываний. «пила»
О художниках и власти: «Недавно у нас в Академии художеств произошло изгнание учащихся в ней женщин, после чего им всемилостивейше дозволено поступать, но не иначе, как со свидетельством от полиции о благонравном поведении… до сих пор полицейские свидетельства требовались в публичных домах, а в Академии зачем? Это неясно… Ах, что за холопское царство! Холопы прислуживаются и выслуживаются перед хамами». О реформах после Октябрьской революции: «Освобождение брака из-под ига попов… уничтожение ехидного „ять“… даже перенесение числа на западный календарь есть хорошая перемена». О водке и искусстве: «Народу, как и нам всем, нужна в жизни радость, а жизнь дает ее скупо – вот и тянет его у нас к водке, в Китае – к опию, на Востоке – к гашишу. Но искусство ведь тоже дает минуты радости, а эти минуты и продолжительнее, и много безвреднее алкогольных» (см. сайт от 04.08.2017 г.). http://www.liveinternet.ru
Задумайтесь: похоже, ирония – недвусмысленный признак душевного здоровья, позитивного настроя, остроты ума. Пожалуй, именно искрометными проявлениями этих качеств достославно имя нашего великого классика. Всмотримся пристальнее: сколько снисходительной насмешки и знания человеческой натуры в этих строках, посвященных колоритному соседу Владимира Ленского:
Не избежал насмешливых аттестаций автора «Евгения Онегина» и сам влюбленный Владимир: «Ах, милый, как похорошели // У Ольги плечи, что за грудь! // Что за душа! Когда-нибудь…» [Там же, с. 123].
И рядом:
С улыбкой опытного сердцееда отзывается А. Пушкин о ветреном характере объекта мужских вздохов:
Не преминул автор романа высказать и свои тогдашние воззрения на «прелести» семейной жизни, о которой так грезил Ленский:
Стараясь сократить дистанцию между собой и читателем до минимальных величин, поэт готов дать своим преданным почитателям и ряд житейских советов (ну и что, если некоторые из них выглядят несерьезно).
Или о том, чем себя занять в холодные, ненастные дни:
Ну, а это дружеское предупреждение – хоть выбивай на мраморной доске в кабинете добронравного отца семейства:
А теперь – опять на два столетия вперед: от ямской кареты Евгения Онегина до современного авиалайнера, доставившего главного героя «Виллы Бель-Летра» в аэропорт «Мюнхен» имени Франца-Йозефа Штрауса.
А. Черчесов не склонен напрямую давать своим читателям дельные житейские советы, но некоторые из его окрашенных иронией размышлений, думается, вполне могли бы пригодиться. Особенно тем, кто занимается креативной деятельностью: «Если не считать затянувшегося творческого бесплодия (довольно бабского состояния, сравнимого, как ни странно, по ощущениям разве что с растянутой за пределы всех человеческих сроков беременностью), минувший год выдался удачным, и даже на редкость. Добросовестно памятуя о том, что везение бывает обманчиво, а для прозаика часто губительно, Суворов воспринимал свой внезапный успех иронично – как черную метку, вручаемую под аплодисменты за то, что ловчее других отыскал свой тупик» [Черчесов 2007, с. 55 – 56].
Не отрицает писатель и некоторых преимуществ коммерческого успеха литератора, однако расположен с улыбкой относиться к продолжительности этого периода «ротшильдовских» удач: «Московский агент Суворова был по-мальчишески возбужден переговорами с десятком солидных издательств от Франкфурта до Осло и смотрел в будущее с нехарактерным оптимизмом, разрешая себе лирический прищур в окно при слове «хэлло», донесенном по телефонному проводу… Глядя на своего посредника меж вдохновением и гонораром, на то, как он «ведет дела», упиваясь своим корявым английским («Ай джяст вонтед ту телл ю, зет май кляйент из вери саксесфул…”), Суворов думал о том, что ощущать себя просто товаром не лишено увлекательности. Ну-ка, кто там быстрее и больше?.. Будьте добры, еще пару гирек для равновесия сюда… Продаваться так споро, наглядно оказалось азартным занятием. Известное дело: блеск куртизанок какое-то время затмевает грядущую их нищету» [Там же, с. 56 – 57].