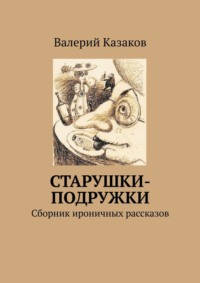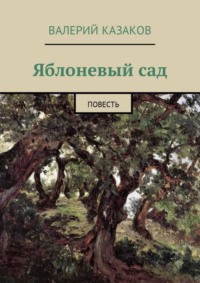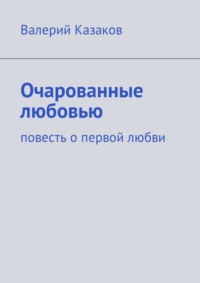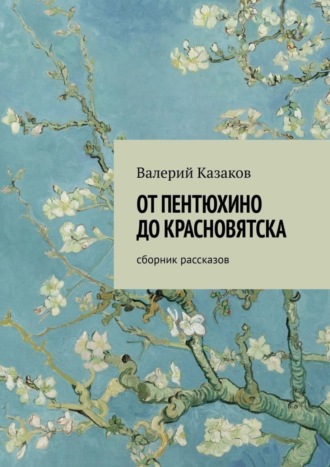
Полная версия
От Пентюхино до Красновятска. Сборник рассказов
– Это стена. Её не переплюнешь.
– А с юридической точки зрения? – подначил я.
– Да хоть с какой. Законы сейчас каждый день меняются. Сегодня дают пенсию в пятьдесят пять. Завтра – не будут. Год прошел – уже ситуация другая. Если бы морду кому набить или послать куда подальше – это мы в любое время. А с государственной машиной воевать нам не с руки. К тому же зарплату ментам повысили, военным – тоже. Это неспроста. Наша власть народа боится. Чего уж там. Ничего страшнее народного гнева нет.
Вот тут я не могу с Павлом не согласиться. Тут он прав…
Помню, как-то на дискотеке окружила меня толпа незнакомых парней. Все они были слегка навеселе, какие-то излишне возбужденные, и все с наглыми рожами. Один из них попросил закурить. Другой сказал, что надо для порядка отойти в сторону и для чего-то поправил ремень у меня на брюках. Короче, стало ясно, что сейчас меня будут бить. Потому что народу понадобилась жертва. Им показалось, будто я кого-то из себя строю. На кого-то я не так посмотрел, пригласил танцевать не ту. Да мало ли чего. Я понимал, что не справлюсь с ними, что эта толпа меня раздавит. И если бы не один мой плечистый приятель, который в тот момент проходил мимо, всё могло бы закончиться весьма печально. Никакие слова эту компанию не остановили бы. Народ в едином порыве непобедим. Тут Павел прав.
– А вчера захожу в школьную столовую, чтобы на обеде перекусить, как следует, а меня не пускают. Представляешь, – неожиданно сменил тему Павел.
– Почему? – вяло поинтересовался я.
– У завуча юбилей, видите ли. Там, оказывается, столы накрывают для праздника. Ну, я естественно возмутился, права стал качать. Хотел завхозу нашему рожу начистить. Показать ему кузькину мать. Но потом передумал. «Дайте хотя бы второе», – говорю.
– И что?
– Мне вынесла повариха еду какую-то. Я деньги отдаю, а она не берет. Это, говорит, от детей осталось. Другого нет ничего…
– Н-д-а!
– Живем как поросята, – зло резюмировал Павел. – За детьми, что останется, доедаем… Хотя я потом ещё приходил. В разгар веселья. Тогда всё по-другому получилось. Все уже стали добрыми. Усадили меня за стол, заставили водки выпить. Глаза у баб масляные. Так и норовят сказать что-нибудь шаловливое. Ну, я естественно выпил. Присел рядом с молодой химичкой. С той, которая в прошлом году учить начала. Хотел ей сказать чего-нибудь этакое, но слов подходящих не нашел. Застеснялся.
– Чего так?
– Робею перед красивыми бабами. Что тут поделаешь. Это у меня с детства… Но одному ухажеру её я всё-таки по башке-то настучал. Обидно стало. Она на него смотрит, а на меня – нет.
– Кто она? – переспросил я.
– Ну, химичка-то эта. У меня долго не горит. Ты знаешь. Я никому спуску не даю.
– А кого побил?
– Сам не знаю. Чужой какой-то мужик попался, но при галстуке. Он после всех пришел. Не наш вроде.
– Может, учитель какой?
– Да нет. Я не знаю его. Только если приезжий…
Павел потупился, перевел взгляд куда-то за окно. Там на ветвях тополя трепетали на ветру последние желтые листья. Потом посмотрел на меня и спросил:
– А ты чего с высшим образованием в кочегары залез?
– Так получилось, – со вздохом ответил я.
– Пошто?
– Работы по специальности не нашел.
– Дурак! Было бы у меня высшее образование, я бы уголь не таскал, – уверенно проговорил Павел.
– А чем бы ты занимался?
– Сидел бы в канторе какой-нибудь. На стуле качался возле компьютера. Я среди баб работать люблю. Им ерунду какую-нибудь расскажешь – они смеются. Или в коридоре за задницу ущипнешь – им весело.
– Х-м-м.
– А чего? С высшим образованием руками-то можно не работать. Это точно. Башкой ворочать надо.
– Не у всех и не всегда это получается.
– Да у тебя и в котельной-то не всё выходит. То в дежурке не приберешься, то у котла мусор оставишь. И насос после твоей смены всё время надо проверять. То течет, то стучит. Подшипники видно не смазываешь ладом.
При этом Павел посмотрел на меня как-то невесело. Я сразу подумал про себя, а вдруг у него настроение сегодня скверное. Чего доброго, подумает, что я его чем-то обидел – и даст мне в лоб. Я немного ещё посидел на нарах, повздыхал и решил на всякий случай поскорее из котельной ретироваться. Кто его знает, что у него на уме.
Борода
В отличие от меня, у моего прадеда деньги водились. Причем не только на хлеб. И даже не только на хлеб с маслом. У моего прадеда был свой маслозавод.
Звали моего прадеда Никифором. Он носил приличный суконный сюртук, светлые брюки из казинета, хромовые сапоги и всегда имел при себе серебряные карманные часы формы «Густав Жако» на тонкой цепочке. Портила Никифора только его окладистая черная борода, которая на фотографиях той поры навевает что-то дремучее.
В небольшом городке, где проживал мой прадед до революции, его немного побаивались. Сторонились. Должно быть, из-за этой самой черной бороды, а может быть из-за огромной силы, которой Никифор обладал в молодые годы. Бывало, Никифор встретит на улице какого-нибудь пьяного забулдыгу, тот ему бранное слово скажет или заденет плечом. Никифор на секунду приостановится, махнет бородой, рукой тряхнет слегка. Глядь, а пьяный мужик уже лежит на земле как подкошенный…
В тридцатые годы моего прадеда раскулачили. Прадед, конечно, расстроился, но бороду не сбривать не стал. И если бы его после раскулачивания не объявили врагом народа и не сослали на Соловки, он бы и дальше жил у своей дальней родственницы, которая приютила его в старой баньке за огородами.
Несмотря на свой суровый вид, человек он был покладистый и терпеливый. Когда его детям приказали от отца отказаться, он и тут не растерялся.
– А чего вам не отказываться-то, – сказал он, – отказывайтесь, коль власти велят. От меня из-за этого не убудет и вам спокойнее.
Дети плакали, но от отца отказывались. Среди плачущих была моя бабушка Мария. Она на всю жизнь запомнила этот страшный день, когда Гришка Воронов, бывший дезертир, на общем собрании местной молодежи приказал ей от отца отказаться. Мария потом всю жизнь было стыдно за свои слова. Стыдно и страшно, потому что тех, кто от отцов своих не отказывался – оправляли по этапу вместе с родителями в Сибирь.
А прадед Никифор – ничего. Он и на Соловках как-то выжил. И через пять лет вернулся в родной Красновятск.
После возвращения устроился на почту конюхом. Стал на лошади в дальние села газеты возить. К нему жена возвратилась. Вместе они стали угол снимать в чужом подвале на Сенной улице, которую большевики переименовали в улицу Урицкого.
Постепенно Никифор с женой привыкли к нищете, приноровились к новым условиям, притерпелись. Живы и довольно, видят из окна зелёную травку на улице да ноги прохожих – ну и ладно…
И тут дед, как назло, снова решил отращивать бороду. В тюрьме его черные космы охранники приказали сбрить. Дед приказ исполнил, но весь тюремный срок лелеял мечту вернуть себе первоначальный вид – утраченный в скитаниях облик.
Прабабка Анна увидела, что её дед к бритве давненько не прикасается, и стала к нему приставать:
– Дед, а дед, не гневи народ, отступись от своей бороды. Сбрей. Только – только люди про тебя стали забывать. Перестали обращать внимание. А ты опять взялся за свое. Опять на казенной лошади людям товары подвозишь. Деньги за эту услуга берешь. Нехорошо!
– Ладно, – отвечал Никифор, а сам и не думал отступаться.
– Ну, смотри, – предупреждала его прабабка, – привлекут тебя за эту бороду.
– Почему это? – не понимал прадед.
– Борода-то у тебя боярская, – объяснила ему жена, – а бояре ныне не в чести. Посмотри, какая она у тебя черная да густая. Это непорядок. При нынешней власти так нельзя.
– А Карл Маркс, – парировал Никифор, – у него борода была не хуже моей.
– Это вождь, – отвечала прабабка, – а ты кто такой?
– А я пролетарий.
– Прощелыга ты, а не пролетарий, – отвечала ему жена.
Анне в последнее время стало казаться, что все их беды из-за этой проклятой черной бороды. У Никифора борода была большая, чуть не до пояса. А у красных комиссаров в газетах все бороды куцые – клинышком, как у чертей.
Вот не было бы этой бороды, может, и жили бы они по-человечески, как все нормальные люди. К тому же со своей бородой Никифор порой выглядит как настоящий поп или – того хуже – архиерей. А священники у нынешней власти тоже не в чести. На них тоже смотрят с подозрением.
В общем, однажды ночью, когда Никифор вернулся домой пьяным, Анна взяла ножницы, которыми баранов по весне стригут, и отрезала у Никифора половину бороды. Что называется, отмахнула.
Он проснулся утром, привычно провел пятерней по подбородку, где борода была, – и опешил. Нет на месте существенной части его образа. Комолый он стал, как старый деревенский бык.
– Ты чего это Анна наделала? – грозно спросил у жены прадед.
– Чего? – упавшим голосом отозвалась из кухни Анна.
– Это самое… Брода-то моя, где?
– Сгорела твоя борода.
– Как сгорела? – не понял прадед. – Я, кажется, костров не разводил. Не шути так ту.
– А я её в печку бросила пока ты спал.
– Зачем? – удивился Никифор.
– Не хочу одна оставаться на старости лет. А с этой бородой тебя, не ровен час, снова загребут. Вот была бы у тебя брода как у Ленина или как у Калинина – тогда другое дело. А с такой-то как у тебя нам жизни не будет. Я чувствую. Ты и без бороды-то на разбойника похож. А с бородой – и подавно.
– Вот дура баба… Не в бороде же дело!
– А в чем?
– В маслозаводе, который я держал. Из-за него нас раскулачили.
– Не может быть! – усомнилась Анна. – У Морозовых, вон, целая красильня была – и ничего.
– Да у них же зять красный комиссар, – попробовал вразумить жену Никифор.
– А у нас дочь учительница. Да и какой завод у нас был, скажешь тоже. Два бочонка под масло, да колода под сметану. Вот и весь завод.
– Зато дом у нас был кирпичный, забыла что ли.
– Ну и что, мы этот дом своими руками построили. За это не раскулачивают. Нет, это всё из-за бороды…
Лишившись бороды, дед как-то сразу сник, как библейский Самсон без длинных волос. Стал прихварывать, да однажды осенью провалился на своей лошади под лед на мелкой лесной речушке. Он в той речке только ноги промочил, но после этого купания почему-то слег и разболелся на две недели, чего раньше с ним никогда не случалось. В больницу, сколько его не упрашивали, он обращаться не стал, сказал, что от смерти все равно не уйдешь. Таблетками от неё не откупишься.
Стал собираться в дальнюю дорогу. Сходил к знакомому столяру – гроб себе заказал. Крест сам себе смастерил дубовый. Зиму на печи пролежал, а к пасхе помер.
Анна пред смертью заметила, что борода у деда стала сильно расти, только какая-то непривычная – совсем седая. И выражение лица стало у Никифора какое-то другое, как на иконах у святых старцев, которые смотрят со стен полуразрушенного собора в центре Красновятска.
Теперь Анна уже жалела, что отрезала у Никифора бороду. Может быть, и на самом деле, не в бороде дело.
Конкурент
У сельповского конюха Ивана Дмитриевича не так давно появился конкурент – Вася Порошин.Васяот нечего делать смастерил самодельный трактор. Задний мост приспособил от списанного «Москвича», двигатель от мотоцикла, а редуктор от пускача с гусеничного трактора, который случайно нашел в Каменурском логу. Когда Вася снимал редуктор, он вспомнил, что года два назад Коля Карамба пахал на этом тракторе частные огороды, ну и навоздырялся как следует. По пути в гараж из трактора выпал. Утром опомнился – стал свой трактор искать, но не нашел. Да и как найдешь, если Каменурский лог от Пентюхина находится километрах в десяти, а сентябрь тогда сухой был – вот следов-то и не осталось.
Самодельный трактор у Васи получился не хуже любого мотоблока – пашет, косит, сено в самодельной тележке возит. И местные жители как-то сразу признали в Васе мастера на все руки. Стали приглашать вместе с трактором для обработки огородов, дружбу старались завести, угостить чем-нибудь при случае. После этого к сельповскому конюху Ивану Дмитриевичу отношение резко переменилось. Просто так Ивана Дмитриевича уже никто не угощал и впрок – тоже. Если и подавали, то только за дело, с меры, чтобы с панталыку не сбился и до дома добрался своим ходом.
А раньше, бывало, Иван на своей кобыле Майке до огородов доедет, подцепит плуг, как положено, супонь подтянет, чтобы хомут не спадал, и садится в тенек под кусты ожидать румяную хозяйку с угощениями.
Хозяева пашут, картошку садят, боронят на его лошади, а он сидит себе, да горькую попивает. К вечеру так ухайдакается на алкогольной ниве, что его, бесчувственного, на телегу грузят и домой везут через все село, как покойника. Дети малые от одного вида такой процессии плакать начинают, старухи крестятся, старики вздыхают с усмешкой: «Э-хе-хе!».
Дома жена принимает конюха из рук в руки, устраивает в чулане на ночлег, плачет, следит, чтобы на спине не лежал. Всю ночь около него без сна, всю ночь в заботе.
Зато утром устраивает ему взбучку и выволочку. Начинает ухватом по дому гонять. Сначала она его, потом он ее. Кончается тем, что она открывает западню в подполе, задергивает ее половиком и выходит к мужу – дразнит, обзывает разными нехорошими словами. Иван, конечно, нервничает, кидается на бабу с кулаками, а она – легким прыжком через западню – раз, и готово. Иван же по своей забывчивости ступает на половик и летит в трам-тарары, увлекая за собой чугуны и ведра с водой, что стоят около печи на лавке.
Пока Иван приходит в себя в темном подполье, постепенно начиная охать и ругаться, Пелагея быстро закрывает на подполье крышку и вешает на запоре замок. Вот тебе и тюрьма до обеда.
Иной раз, правда, и в подполье он долго не сдается, ворчит там что-то жуткое, сквернословит, в западню снизу колотит старым сапогом. Но Пелагея неумолима, как правосудие.
– Извинения проси, свистодыр, – требует она, – а то вообще не выпущу оттудова и голодом заморю.
– Опохмелиться дашь – извинюсь, – отвечает Иван ехидно.
Пелагея вертит перед западней морщинистым кукишем и продолжает:
– У других-то ведь мужики как мужики – только по субботам причащаются да в получку иногда, а ты каждый день пить заладил. И где только денег берешь? За что тебе подают? Ведь пахать-то ты уже не можешь ладом, городские отрехолки лучше тебя пашут.
– Ну уж нет, у меня борозда, как стрела! – кричит из подполья Иван.
– Тын весь скоро упадет. Вчерась угловую-то доску около бани уже на гасник привязала. И это при живом мужике! С ендовы вода мимо стряку льется. Поросенок вместо корыта из алюминиевой черепени ест… Вот до чего я с тобой дожила!
– У меня борозда!.., – не унимается Иван.
– Да молчал бы уж нето. Э-э-х! Горюшко ты мое! И за какие грехи мне такое наказание?
Иван слышит, как наверху Пелагея начинает тонко всхлипывать да причитать, и ему вдруг становится жаль ее. Он ерзает на холодной земле, чешет лысый затылок и не знает, что сказать ей в утешение. Нет у него в голове словесного сочувствия. В душе скребет, а на язык не вы ходит.
– В других-то людях хоть жалость есть, а в этом нет никакого сочувствия, – шепчет Пелагея сквозь слезы.
После этого у Ивана, наконец, появляется нужная мысль, от которой теплеет на сердце.
– А помнишь, Пелагея, – начинает он, – как мы с тобой сено косили в Черепановском логу? Помнишь?..
Пелагея помнит, ей иногда кажется, что вся ее жизнь прошла по логам да ухабам.
– Али забыла? – спрашивает Иван, на минуту прислушивается, что Пелагея ответит, а потом продолжает: – А я помню… Мы тогда молодые были. Поработали, разогрелись. Тебе жарко стало – ты кофточку скинула на траву. А я стоял и смотрел на тебя во все глаза. Какой ты красивой казалась мне тогда. Какой красивой! Прямо сердце замирало. Потом ты оглянулась на меня – и в глазах у тебя блеснуло что-то озорное… Что это было, Пелагея? А. Не помнишь?
– Молодость, – вздохнула Пелагея.
– Любовь, – поправил её Иван.
Чем ближе к обеду, тем все мягче, все сердечнее становятся разговоры у Ивана и Пелагеи. В конце концов, он начинает раскаиваться во всей своей несусветной жизни… Пелагее становится жаль мужика. Она выпускает его из «карцера» и подает стакан крепкого чаю с малиной. Ну что с ним поделаешь, с этим разбойником, тоже ведь человек с виду.
После чая Иван розовеет лицом, его прошибает пот, и настроение у него поднимается еще более. Сейчас он с женой становится ещё ласковее, но начинает конкурента ругать, Васю Порошина. Из-за Васи все… Вася ставку понизил, стал за один огород брать по сто рублей, в то время как у Ивана дешевле двухсот цена не опускалась, в соответствии с русским стандартом – бутылкой водки.
– Я вот ему устрою, Васе-то! Устрою я ему! Он узнает у меня, как палки в колеса вставлять.
– Да чего ты устроишь? Чего? Да и устраивать ничего не надо. Работает человек – ну и пусть работает, – стала увещевать мужа Пелагея.
– Я ему устрою! Он узнает у меня.
И, что особенно странно, сдержал Иван свое слово. Две ночи не спал, но что-то нехорошее придумал, а потом сделал.
Через неделю самодельный трактор у Васи сломался. После этого все пентюхинцы опять пошло к Ивану Дмитриевичу на поклон, а он впервые за много лет позволил себе поиздевался над неразборчивыми людьми. И технику самодельную охаял. Всем стал говорить, что на эту технику сейчас надежды нет, несерьезная она: сегодня работает – завтра – нет. Вот лошадь это другое дело. Для лошади и бездорожье не помеха, к тому же она своими копытами почву не мнет, ест мало и умная: чего ей ни скажешь – она все понимает, только отвечать не научилась пока. Но запрягать ее надо ладом. Ладом надо запрягать. Кто теперь из молодых-то людей запрягать лошадей умеет, как положено? Да – никто не умет. Иногда человек даже пахать берется, а не знает, как супонь на хомуте затянуть. Как чересседельник к седелку крепится или подпруга. Иной пахарь даже не понимает, для чего лошади узда нужна. Как дуга через гуж к оглобле крепится.
Так бы и жил Иван Дмитриевич, рассуждая и припеваючи, до самой пенсии, если бы не грянула в России повальная перестройка, которая все поставила с ног на голову.
В соответствии с новыми веяниями поступила в сельповскую контору бумага, рекомендующая сократить управленческий аппарат сельпо на одну единицу. И по странной логике провинциальной бюрократии под это сокращение попал как раз конюх Иван – человек бесполезный и беззащитный. Соответственно пришлось сокращать и кобылу Майку. Ивану за два месяца вперед выплатили компенсацию, перед ним нарочито долго извинялись и разводили руками. Майку же без рассуждений отправили на колбасу.
Говорят, при расставании с Майкой Иван Дмитриевич расплакался, ласково стал прижимать ее понурую голову к своей щетинистой щеке, и все просил у нее прощения.
– Ты уж прости меня, дурака. Не жалел я тебя. Не кормил как следует. Пил. Подавали мне. Ты работала, а я пил. Прости, лошадушка, прости, сердешная!
Когда Майку стали по трапу заводить на машину с высокими бортами, Иван Дмитриевич не выдержал – отвернулся и смахнул со щеки скупые стариковские слезы. Колхозный шофер Сашка Соломин увидел вдруг, что и лошадь тоже плачет. Слезищи такие по щеке катятся, что… Подошел к Ивану, ткнул его в бок, пальцем на лошадь указал, а сказать ничего не смог – ком встал в горле.
После этого Иван Дмитриевич не выдержал – рассвирепел, ворвался в сельповскую контору и обозвал всех конторских дармоедами, паразитами обозвал, но от сердца почему-то не отлегло.
Снежная женщина
Помню, она всегда приходила в снегопад. Я видел, как она идет по саду в коричневом пальто и норковой шапке. Все вокруг нее белое, мягкое, округлое, все неподвижно, призрачно и холодно, только плавно переступают ее ноги да покачиваются руки в черных перчатках. Она все ближе ко мне, все отчетливее ее лицо, глаза, губы. Сердце мое начинает восторженно биться. Она уже рядом.
Между тем она входит в дом и наполняет его особым запахом морозного утра. Ее глаза блестят, на ресницах тают случайные снежинки. Я обнимаю ее и целую в холодные щеки. Я очень люблю целовать ее именно в холодные щеки, когда они еще не потеряли аромата морозной улицы, когда они покрыты легким румянцем.
От мягкого воротника ее пальто исходит нежный женский запах, волосы пахнут шампунем и духами, руки кремом. Может быть, именно из-за этих долгожданных встреч в самом начале зимы для меня всегда есть что-то волшебное, и дарит это волшебство первый снег.
Она снимает пальто, поправляет волосы и просит погреть ей руки. Они, и правда, у нее холодные. Я беру её пальцы в свои ладони и грею их. Дышу, растираю, прижимаю к своим щекам. Кожа на ее руках удивительно тонкая, почти прозрачная. Пальцы безвольные, тонкие, осторожные.
Мы садимся на диван перед большим окном в сад и смотрим, как падает снег. Наверное, это может показаться странным, но мы почти ни о чем не говорим. Просто сидим и смотрим, как за окном крупные снежинки лепятся на ветви калины, как они украшают старую яблоню, тёмный забор, и это наблюдение наполняет душу какой-то особенной, понятной только русскому человеку, снежной нежностью.
Потом я обнимаю ее за плечи, привлекаю к себе и забываюсь в длинном поцелуе. Она начинает дрожать, прижимается ко мне и говорит, что ей холодно, она почему-то не может согреться, а сама в это время с тайным трепетом смотрит в снежный сад, и при этом её большие синие глаза таинственно блестят.
Насколько я помню, она никогда не смотрела на меня в упор. Может быть поэтому сейчас я представляю ее только в профиль.
Моя снежная женщина, где ты?
В один из снегопадов, когда за окном очень рано стемнело, и куст калины в саду превратился в один сплошной белый орнамент с редкими вкраплениями красных ягод, мы опомнились на своем любимом диване нагими. Ей почему-то не было холодно всю эту ночь. Всю ночь красивое атласное одеяло пролежало рядом с нашей кроватью на полу… А когда утром я попробовал открыть дверь на крыльце, то впервые едва смог это сделать – столько за ней скопилось чистого белого снега… Он шел всю ночь.
А потом она исчезла на целых две недели, и в ее отсутствие не случилось ни одного снегопада. Каждый день дул ветер и светило холодное солнце. Было скучно и одиноко.
Потом ее не было месяц, потом год. Я пробовал её найти, но все мои усилия оказались напрасными.
Сейчас я ничего не знаю о ней, но в пору зимнего снегопада, когда на меня вдруг наваливается грусть, мне почему-то верится, что где-то далеко-далеко тоже идет снег, и перед большим окном в сад сидит красивая женщина с едва заметным румянцем на щеках и вспоминает странного молодого человека, который когда-то разогревал ей руки своим дыханьем, но не смог отогреть сердце…
А может быть, уже нет на земле той женщины. Может быть, зря в пору тихого снегопада с тайной надеждой смотрю я в конец своего стареющего сада, – туда, где начинается узкая тропинка к дому, и думаю о ней.
Волчица
Володя давно мечтал принять участие в охоте на волков с бывалыми егерями. Из рассказов отца, который всю жизнь провел в лесу на пасеке, он знал о повадках этих зверей почти всё, но живых волков никогда не встречал. К тому же отец был человеком набожным и кротким, он говорил, будто волки это не просто звери, не просто умные хищники, а некий особенный клан животных, в стае которых царит культ матери. Так что с матерой волчицей лучше не встречаться, лучше её не обижать. Ибо по древним славянским обычаям есть некое божество, которое волкам помогает и не дает волчьему роду исчезнуть с земли навсегда.
Когда лесник из соседней деревни сказал, что нашел волчье логово рядом с Пенькиным болотом, ему никто не поверил. Там никогда не водилось волков.
Место это располагалось недалеко от лесной деревни Максанки. Островки песчаной суши чередовались там с бескрайним болотом, густо заросшим осокой и багульником.
Бригаде охотников пришлось добираться туда несколько часов, минуя самые гиблые места, обходя темные озера открытой воды, продираясь сквозь еловые завалы и густой осиновый подлесок.
Раскапывать логово мужики начали после обеда. Руководил раскопками районный охотовед Павел Васильевич Марьянов, а помогали ему Володя Романов и Петя Фаркоп. Марьянов был невысокий худой мужик с бледным лицом и печальными глазами. Он сам лопатой не работал, но был всегда рядом и показывал, как себя вести, когда до волчат будет рукой подать.
Часа через два вход в волчье логово был раскопан до нужной ширины и Володе, как самому молодому из всех присутствующих, – пришлось в него протиснуться.
Волчата забились в дальний угол логова и подняли там страшный визг, перемежающийся с рычанием. Никто из них не хотел сдаваться, а самый старший и сильный с рычаньем нападал на кирзовый сапог Володи и яростно его покусывал. Этот волчонок казался уже настоящим зверем. Сам величиной с большую мужскую рукавицу, но дерзости и злобы ему было не занимать. Кое-как изловчившись, Володя схватил его за загривок, поднял наверх и передал охотоведу. Тот бросил волчонка в мешок. Но и в мешке волчонок долго не мог успокоиться, рвался на волью, рычал и скулил. Между тем Володя достал из норы ещё одного волчонка, потом ещё. В конце концов, в норе осталась только одна крохотная сучка, которая почти не сопротивлялась. Когда она оказалась в руках у Фаркопа, он посмотрел на неё своими светлыми глазами и сказал, что эту убить не позволит. Возьмет себе. Она совсем безобидная.