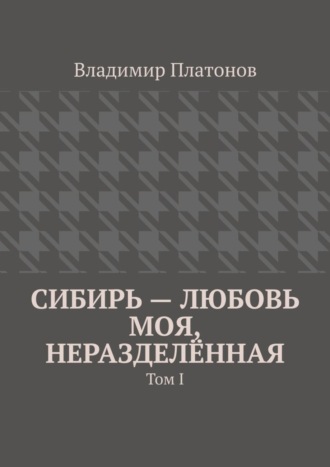
Полная версия
Сибирь – любовь моя, неразделённая. Том I
Неожиданно перед самыми выборами кто-то из вожаков комсомольского комитета поймал меня в коридоре и предупредил, что меня вызывают в горком партии, чтобы завтра в шестнадцать часов я прибыл в кабинет третьего секретаря горкома. Я даже опешил: «Я? В горком партии?» «Да». «Но зачем?» «Не знаю. Позвонили, тебя вызывают». Я ломал себе голову: «Зачем я нужен горкому, и кто там мог обо мне что-либо знать?» – но так ни до чего не додумался.
На следующий день в назначенный час я был в горкоме партии в указанном кабинете. Не могу сказать, чтобы стены обители власти привели меня в трепет, но смутное беспокойство я испытал. Мужчина в комнате, куда я вошёл, объяснил, что он пригласил меня в связи с моим письмом в ЦК партии.
– Ах, вон оно что! – подумал я, и сердце моё учащённо забилось: «Что же они скажут мне? – А подспудно: – Что же они теперь со мной сделают?»
Мужчина продолжил:
– Нам поручено ответить на вопросы, поставленные в вашем письме. То, о чём вы пишите, действительно имело место. Товарищ, он назвал фамилию председателя горсовета, не отчитался перед избирателями, но он очень занятой человек, он не мог выкроить время для встречи…
«Но ведь он нарушил закон, Конституцию!» – я возмутился в душе, но вслух возмущение высказать побоялся. А позднее, гораздо позднее сообразил, что никакой меры ответственности за нарушения Конституция не предусматривала. В таком же духе вёлся и весь остальной разговор, на всё находились причины. Говорил он со мной вежливо, но твёрдо парировал все мои возражения тем, что бывают чрезвычайные обстоятельства, особые случаи, и я постепенно сникал под напором неубедительных доводов.
Наконец, ему, видимо, надоело меня убеждать, и он, придвинув ко мне бланк с отпечатанным текстом и, ткнув пальцем в строчку внизу: С данными мне разъяснениями (дальше было пустое место), сказал: «Вот здесь напишите „согласен“ или… „не согласен“ и распишитесь».
Мне очень хотелось написать: «Не согласен, – но я смалодушничал, струсил, вывел: – согласен», – расписался и вышел, до предела презирая себя. Но ведь кому охота навлекать на себя неприятности, если победить нет надежды.
Закончилась предвыборная кампания, настал день выборов в Верховный Совет. Я в кабинке для тайного голосования пишу на обратной стороне бюллетеня восторженные слова благодарности товарищу Сталину, партии и правительству за то, что могу выбирать высший орган государственной власти и прочую чепуху, которой до отказа забита тогда была доверчивая моя голова… В людях я видел только хорошие стороны, плохие старался не замечать, считая их отклоненьем от нормы. Хорошо, что хватило ума не подписать это глупое излияние чувств. Разумеется, опус мой можно было использовать для пропаганды: вот как советский студент оценивает нашу систему, какой взрыв благодарных эмоций вызывает она у него! Но, скорее всего, могло быть иначе. В избирательной комиссии люди с опытом жизни, которых я очень ценил и добрым их ко мне отношением дорожил, несомненно, подумали бы: «Ну, какой же Платонов, в сущности, идиот», и я навсегда лишился бы их уважения. Уважения, которого они от меня не скрывали.
Идиотский порыв мой, без сомнения, был спровоцирован тем, что о подобных надписях на бюллетенях с восторгом писали газеты, вещало радио. Ну как же было мне, с пелёнок воспитанным изливавшейся из них пропагандой – иных источников получения сведений не было: родители, взрослые, понимавшие, что происходит в стране, запуганные террором, пребывавшие в страхе ареста за каждое правдивое слово, никогда не говорили о власти, о нашем общественном строе, – как же было мне не восхищаться вождём, создателем самого справедливого строя, обеспечившего людям все права и свободы. И в самом деле, Конституция у нас была хороша!
В ней все провозглашённые праваНаполнены глубоким содержаньемЗовут на подвиги, на труд и на дерзаньеНас Конституции чеканные слова.…В общежитии я впервые узнал, что значит быт. Себя, оказалось, надо обслуживать. Когда вороты моих светлых рубашек потеряли первозданную свежесть и чистоту, я понял, что их надо стирать. Мама всю жизнь оберегала меня от этих забот, но я видел, как она это делает: тёрла пальцами в мыльной воде замоченное бельё, полоскала, выкручивала.
…я так и сделал. Купив большой кусок серого мыла, выпросил тазик у хозяйственных девушек, согрел на кухне воды и энергично принялся за стирку. Я тёр на согнутых пальцах намыленные рубашки, но скоро почувствовал нестерпимую боль: костяшки пальцев были растёрты до крови. Рубашки я достирал, но кожа фаланг долго не заживала.
Позже мне подсказали, что тереть бельё надо не пальцами, а кулаками, меж подушечек у основанья ладоней. Я попробовал, с непривычки это показалось мне неудобным, зато ссадин на моих пальцах больше не появлялось.
…носки стирали все очен-но редко, пока они не начинали в ботинках скользить и липкими становились настолько, что, будучи подброшены к потолку, там прилипали. «Дозрели», – смеялись мы и принимались за стирку. Всё потому, что запаса не было, кроме второй пары носков. И покупка новых носков превращалась в событие.
…баня.
…Раз в неделю, по воскресеньям – и день этот почти пять лет оставался священным для всех нас – мы шли мыться в баню, она была в десяти минутах спокойной ходьбы. Там нам открылось, что при бане есть прачечная. Причём за стирку кальсон, маек, трусов и рубашек брали недорого, копеек по десять-двадцать за штуку. Это было приемлемо, экономило время и силы и позволяло сохранять «элегантность» при этих походах. Однажды сдав грязное бельё в стирку, ты уже не таскаешься в баню со свёртками. В наступившее воскресенье получаешь в прачечной свежевыстиранное выглаженное бельё, а, помывшись, сдаёшь туда с себя снятое грязное. Это в социализме мне до крайности нравилось. Три шкуры не драли. Тридцать шкур драли в другом. Взять хоть заём. Это для красного словца я сказал, зачем им наши гроши. Из грошей ста миллионов полунищих работников и складывался огромный заём, тысячи рублей высокооплачиваемого руководства в нём были маленькой каплей.
Но вернёмся назад, то есть к бане. Она была самой обыкновенной со знакомыми деревянными шкафчиками в раздевалке, со скамьями и тазиками в самой бане, в тазики набирали холодную воду и кипяток из двух медных кранов.
Была и парная. Мы парились в ней, залезая на самый верхний полóк, где от жара дышать невозможно, и волосы на голове начинают потрескивать, от чего спасались холодной водой, обливая раскалённое тело из тазиков.
…но зато как хорошо было выйти чистым из бани, ощущая свежесть отглаженного белья, как хорошо погасить в теле жар кружкой холодного жигулёвского пива…
…идёшь после бани, раскрасневшийся, по морозцу с товарищами, и так радостно и легко, будто с грязью и горести свои в бане оставил.
…в четвёртом семестре появились новые дисциплины: математический анализ, физика, что-то ещё; навсегда канула в лету, блистая, начертательная геометрия, её заменило скучное машиностроительное черчение. Продолжилось обучение иностранному языку. С самого начала нам предложили на выбор два языка: английский или немецкий. Побаиваясь, что немецкий меня заставят продолжать, опираясь на школьные знания, кои были шатки весьма, я выбрал английский: в школе точно его почти никто не учил, и начнём его мы с самого начала. Немецкий с французским я достаточно «знал».
Всё вышло, как я полагал. Английский начали с азов, и проблем у меня с ним не было – сплошь пятёрки и знания систематические, а не эклектика, как в тех двух языках.
…после зимних каникул в институте начали создавать систему управления комсомольцами, другими общественными организациями. Комитет комсомола мы избрали на общем комсомольском собрании. Секретарём его стал Юрий Корницкий, студент-электромеханик. Он был старше нас и, как выяснилось потом, успел поработать секретарём в Моршанском горкоме комсомола в Тамбовской области.
Невысокого роста, стройный, подтянутый, не красавец, но с лицом, внушавшим симпатию, он был по призванию вожаком. Вокруг него всё кипело, крутилось. Ко всему у него и голос был певческий – это тоже многое значило.
Отчётно-выборное собрание тянется обычно уныло и скучно. И хотя отчётной части у нас быть не могло – некому и не за что было отчитываться, но доклад небольшой всё же был, и с критикой выступали. Далее началось выдвижение кандидатур, обсуждение, отводы, самоотводы, голосование за включение в список, печатанье бюллетеней, голосование за включённых, подсчёт голосов, ожидание результатов, утверждение их, – скуки, однако же, не было. В каждый очередной перерыв Юра поднимался на сцену (и аккордеонист вместе с ним) и предлагал: «Давайте споём!» Его бурно поддерживали и пели всем залом песни прошедшей войны, революции и гражданской войны, и лирические, и о любви, и всё это так здорово было, рождало чувство единой семьи. Это было сильное чувство – стоять друг к другу плечом, ощущать мощь коллектива и себя, как часть этой мощи, с единомышленниками, друзьями…
Если бы так было в жизни!
…вскоре нас всех чохом приняли в профсоюз горнорабочих. И там начали создавать управленцев.
…На факультетском собрании комсомола какой-то студент при выдвижении кандидатур выкрикнул мою фамилию, и, хотя я пытался кандидатуру свою отвести, меня избрали членом бюро факультета. Не скрою, мне это польстило. Но на состоявшемся тут же заседании бюро я был расстроен: мне поручили сектор учёта, безделье, никому ненужную чепуху – кого и что я был должен на факультете учитывать? Я предпочёл бы сектор учебный, там я знал, что надо делать, как помогать отстающим студентам. Но спорить и добывать себе «пост» мне было неловко. А поскольку я активности не проявлял, то мне и сунули для отвода глаз ерунду.
…делать мне было решительно нечего. На учёт не становился никто, а если бы и становился, то в комитете. Комитет собирал и членские взносы. Он же «вылавливал» неплательщиков взносов, бывали такие.
Бюро наше после распределения обязанностей не собралось ни разу, никто никаких поручений мне не давал, ничего и не требовал. Я даже забыл, кто в нём секретарь. И, натурально, ничего и не делал, отчего гордость моя к весне потускнела и сникла. Бездельником себя ощущать тяжело.
…в группе тоже избрали своих «вожаков». Старостой – татарина Шамсеева, комсоргом – Людмилу Володину, профоргом – хроменького Савоськина, еле сдавшего сессию, но общительного, умевшего быстро сойтись с кем ему было нужно. И ещё избрали физоргом маленького подвижного Дергачёва, все «должности» эти, кроме старосты, и в особенности последняя, были просто для смеху, для того, чтобы было с кого-то за что-то спросить. Но, вообще говоря, если бы тот Дергачёв почитал бы журналы по физкультуре и самбо, нашёл способ наращивать мышцы, увеличивать силу и мне хотя бы, о том рассказал – от него бы польза была и немалая. Но никто ничего не делал, понимали, что это всё для проформы, как в бирюльки игра, и за безделье не спросят.
Вал шумной общественной деятельности поднялся, прокатился, затих. Всё стало на место, как у всех, как всегда.
…Практически в институте что-то заметное делала лишь редколлегия комсомольской сатирической газеты «Ёж». Газета приобрела популярность. При появлении свежего номера возле неё сразу собиралась толпа – не протиснуться – студентов и преподавателей между ними.
…организация коммунистов мириться с таким положением не могла – у неё своей газеты-то не было. Спешно была избрана редколлегия из коммунистов, но от этого выходить газета не стала. Рутинной работой заниматься никто не хотел, материалов не было никаких, писать было некому, да и не о чем. Тогда партком решил в помощь привлечь комсомольцев, стал нажимать на комсоргов, чтобы те в своих группах для институтской газеты корреспондентов назначили: сведения для неё собирать, писать в газету заметки о происшествиях в группах.
…наш треугольник (староста, комсорг и профорг) ревностно принялся выполнять поручение, но нисколько в этом не преуспел. Собкором газеты никто быть не хотел, все, как чёрт ладана, боялись этого назначения.
…меня наши лидеры обходили сначала, у меня обязанность-то была – как-никак член бюро факультета, – но затем и ко мне подкатились. Я подумал и – для них неожиданно – согласился (многое я тогда всерьёз принимал).
…Сам не знаю, как и с какого месяца для самого себя незаметно я всё чаще стал заглядываться на Володину. Она нравилась мне непосредственностью, решительностью, умением сходиться с людьми, словом, тем, чего мне так не хватало. К тому ж шла весна, а она была так юна, так мила и такой была прехорошенькой! Я хотел с ней ближе сойтись, быть с нею накоротке, как другие ребята, но это мне не удавалось никак. Я боялся, я стеснялся, я не знал, чем её бы привлечь, как разрушить её ко мне полное равнодушие.
Все ребята из группы держались с ней запросто и беспечно. Я же с нею не мог так говорить, и она со мною держалась официально: чем-то я в глазах её не походил на других. Впрочем, все друг на друга мы не походим, но я чем-то уж особенно от других, видимо, отличался и не в пользу свою.
…но ничего с собой я поделать не мог. Меня сильней и сильней к ней тянуло, хотелось видеть её ежечасно, любоваться её свежим нежным лицом. Я стал придумывать поводы, один неуклюжей другого, чтобы в её комнату заглянуть.
Первый раз я зашёл в воскресенье часов в десять или начале одиннадцатого, слишком рано по их понятиям, видно; все они вылёживались в постелях. В комнате стоял дух неприятный, тяжёлый, ну, чуть полегче трупного запаха. Это меня поразило, это так не вязалось с чистотою их лиц, лёгким румянцем, тронувшим их после сна. Белые плечи, перетянутые бретельками, высунувшись из-под одеял, так и веяли свежестью. Красота эта могла только благоухать. И вдруг «…и смертный душный плоти запах».
…В этом несоответствии внешнего вида и физиологии было нечто оскорбительное для человека.
…я понял, что не ко времени и быстро ретировался.
После я заходил всегда вовремя, когда комната была проветрена, прибрана, и тонко пахло пудрой, духами. Кроме Людмилы жила там Юля Садовская, я о ней уже говорил, и Наденька Ставер, воздушное прямо создание. Лицо её было бы очень красиво, если бы не печать уныния, постоянно на нём пребывавшая. Глаза её всегда были тоскливо грустны, отчего лицо её часто казалось плаксивым, будто Наденьку очень обидели. Это умаляло её привлекательность.

Рис. 7. Людмила Володина
…мои посещения не отличались разнообразием: зайду что-то спросить или что-нибудь попросить – мне ответят или дадут, и делать здесь больше мне нечего, пора уходить, и я ухожу, раздосадованный собою, унося в сердце горечь.
…Однажды я тактику свою решил изменить. Я попытался пересказать исторический анекдот, вычитанный в романе, но не подумал, что для динамичного двадцатого века он не годился. Мне бы просто зайти к девушкам и прочитать смешной этот отрывок, а я решил сам его пересказать.
…зайдя вечером к ним и застав всех троих, после обычных – вопрос и ответ, я спросил: «Хотите, я расскажу анекдот?» «Хотим», – встрепенулись они и изобразили внимание.
И я пересказал анекдот длинно скучно. Ещё не закончив его, я видел, что провалился. Ни смешка, ни улыбки, лица вытянулись в недоумении, будто на идиота смотрели. А я не знал, куда себя подевать и как из их комнаты побыстрее убраться. «Болван, бестолочь, олух», – вихрем проносилось у меня в голове, и конца определениям не предвиделось. А тут ещё в моём животе заурчало, да громко так, с переливами.
Почему я не провалился под пол?! Не помню, как я сбежал, ведь для бегства предлог тоже выдумать нужно, а, поди, в таком состоянии, выдумай!
…больше я в их комнату не заглядывал.
…Дела в нашей группе шли ни шатко, ни валко. Прошедшую сессию группа сдала весьма плохо. Много двоек – «хвостов», но хвостисты от них не торопятся избавляться. На практических занятиях многие выказывают полнейшее незнание элементарных вещей. Разумеется, были малоспособные, слабые, но угадывались и такие, у которых был в прошлом пробел, ликвидируй его – зашагает студент в ногу со всеми, станет хорошо заниматься. Но до этого дела не было никому, прежде всего, им самим, но и сектор учебный ими не занимался. У меня был опыт вхождения в колею, но навязываться я не мог, не любил и, к тому же, стеснялся. Если бы мне поручили, вменили в обязанность, я бы тогда осмелел: долг есть долг, и его я привык выполнять, несмотря ни на что, и застенчивость тут не могла проявиться.
…В первых числах апреля секретарь партбюро даёт мне поручение как собкору газеты написать заметку о делах в нашей группе. Неприятное поручение. О снижении цен с первого марта я бы с удовольствием написал. Но о группе…
…я пишу, и не получается у меня ничего: размазня какая-то кислая. Рву написанное на клочки, через день сажусь снова. И опять ничего не выходит: лишь расхожие клише и казёнщина. Не могу заметочку написать.
…и тут странная вещь со мной происходит. Нахожу себя не в большой нашей комнате, а в маленькой на своём этаже, но в крыле как раз над Люськой Володиной. Может, нас после сессии расселили по группам? А я этого не заметил?.. Вечер… Сумерки… Посреди комнаты я за столом спиною к окну и лицом к входной двери, соответственно. Мне темно, но света не зажигаю. Передо мною листки, авторучкой исчирканные, но путного в них нет ничего, нет ни строчки, одни загогулины и лепящиеся друг к другу квадраты и треугольники, сплетающиеся в бессмысленный бесконечный узор, моей рукой начертанный машинально. Я ищу, с какой фразы начать мне заметку, я измучен, но ничто не приходит на ум. Я досадую, вскакиваю, нервно хожу, сумерки меня угнетают, но и света я не хочу. Сажусь снова за стол – лезут одни газетные штампы: трескотня и корявость. Я так писать не могу – это было бы для меня унизительно. Это было бы признанием своей полной несостоятельности.
…открывается дверь. Входит Коленька Николаев. Низенький, приятный на вид, похож на грека с копной жёстких чёрных, как смоль, непокорных волос. Коля середнячок, но необыкновенно умён и необыкновенно проницателен. С таянием снега мы с ним сблизились, вместе бродили по весеннему логу, говорили о многом, спорили, философствовали.
Коля спрашивает: «Как дела?» – имея в виду мою писанину. Я жалуюсь, что ни слова из меня не идёт. Коля достаёт из кармана начатую пачку папирос «Беломор», спички, кладёт их на стол. «Покури», – говорит и уходит. Я вытряхиваю одну папиросу из надорванной пачки и закуриваю, затягиваясь. Раньше, дурачась, я закуривал иногда, но никогда дым в лёгкие не впускал. Теперь же курю я по-настоящему. Но от этого ничего не меняется. В голове, по-прежнему, пустота. Я выкуриваю вторую папиросу, третью,…, шестую. Мне противно, меня уже мутит, но голова проясняется. Я сажусь и начинаю писать. Мысль течёт и легко отливается в безупречные предложения, накрепко стройной логикой связанные. Рассказав всё о группе человеческим языком, я пытаюсь найти исток слабостей наших и то, что, по-моему, помогло бы избавиться от недостатков. Достаётся и нашей «блистательной тройке», не занимающейся ровно ничем даже от случая к случаю. Не щажу я ни Шамсеева, ни Володину, ни Савоськина. Я не помню написанного, но, по отзывам, оно было живо, эмоционально и по существу. Главное, не казённо. Перечитанная наутро, заметка самому мне понравилась, удалась, одним словом. Понравилась она и редколлегии, её тут же поместили в газету. И хотя в написании мне очень помог никотин, я понял, что курить больше не буду. Работать надо без внешних подстёгиваний.
…после заметки нашу руководящую троицу слегка пожурили на заседании комсомольского комитета, и она на меня сильно обиделась. Я лишь плечами пожал: «Я не напрашивался. Сами уговорили». Крыть было нечем.
…мы часто не предвидим последствий своих действий.
Впрочем, и после заметки и небольшой нахлобучки героям её не изменилось ничто. Я то не понимал в те времена, что общественная работа давно превратилась в фикцию, что никого не интересует ничто, кроме формальных отчётов, «галочек» о каких-то делах. По ним и оценивали работников: столько таких вот мероприятий они провели (не интересуясь, были ли они проведены в самом деле и дали ли какой-либо результат), столько-то было совершено культпоходов, столько-то спортивных соревнований проведено, столько-то выпущено стенгазет… Думаю, что я не пересаливаю со зла. Так оно было. Хотя изредка бывало и иначе.
Проходил месяц март, «рассупонилось» солнышко, зеленели в поле озимые, и почки лопались на деревьях, являя миру не развернувшиеся ещё густо-зелёные клейкие листочки свои. Я иду мимо неприглядного голого Стандартного городка и вдруг останавливаюсь. «Мой» дом в зелени весь. Двор обсажен черёмухой и штакетником обнесён. За кустами взрыхлённая земля разбита на клумбы и грядки, из которых торчат поникшие стебельки недавно высаженных цветов. Ничего, они ещё отойдут.
Я смотрю на этот скромный ухоженный уголок в удручающе неприглядном посёлке, и у меня теплеет в душе; наполненный чувством любви ко всем людям, я радуюсь, что частичка её вложена тут и даёт первые всходы.
…и тут же вспоминаю о позорном своём поведении в Кемеровском горкоме. Мне противен мой слишком мягкий характер. Мне противно, что я не могу сказать, когда надо твёрдое «нет», мне неловко доставить таким вот ответом неприятность какому-то человеку. Вместо этого и чтобы не смалодушничать, и не сказать всё-таки «да», которого не хотел, я часто уклонялся от прямого ответа на неприятный вопрос или действие, искал обходные пути, которые иногда в такие тупики меня заводили, что выбраться из них стоило большого мучительного труда. И ничего этого не было бы, если бы сразу пресёк все попытки навязать мне нечто ненужное или даже вредное мне. Мне всегда было быть трудно жёстким с людьми, я всегда им сочувствовал, их жалел, входил в их положение и хотел им помочь. Лишь когда дело требовало того, я мог быть вежливо жёстким. Только во второй половине жизни своей во всём научился я решительной твёрдости. В молодости же порой мне казалось, что у меня вообще нет характера. Но, пожалуй, он у меня всё-таки был, или, может быть, было упрямство. Если цель появлялась, я её настойчиво добивался. И очень часто с успехом. Жаль, не в любви. Но и там всё вышло отлично, когда поумнел и опыта кое-какого набрался и когда в последний раз полюбил.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Сбывшимися, надо сказать, с точностью, превзошедшей все ожидания.
2
Фусан, в другом написании.
3
Как позже выяснится, так оно в самом деле и было.


