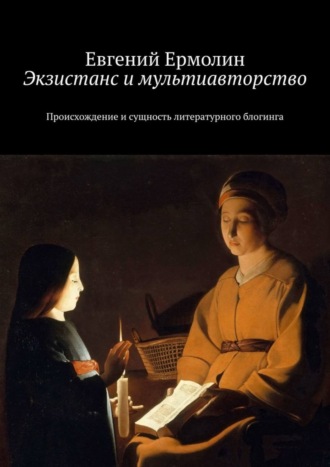
Полная версия
Экзистанс и мультиавторство. Происхождение и сущность литературного блогинга
Но зрелый символизм Набокова трезв и осторожен. В отличие от раннего, полного безумных откровений символизма начала ХХ века, он чужд откровенных контактов с иными мирами, не предполагает потусторонних путешествий. Писатель скептически отрубает слишком прямые пути к Абсолюту, отбрасывает старые оболочки (может быть, слишком даже решительно). Именно за счет этого он достигает новой ясности и новой простоты в отношениях с потусторонним. Даже когда миры соединяются и в тощем старике, бродящем по его двору, рассказчиком опознается пророк Илья («Гроза»), Набоков умудряется фиксировать это чудо без малейшей принужденности – может быть, потому, что лишает его дидактических или прагматических последствий. Современные опыты такого рода, эксперименты со смертью и посмертьем находятся вне поля контактов с творчеством Набокова.
Очевидны уроки у Набокова-символиста и сюрреалиста в прозе некоторых наших современников. Близок по методу опыт поздней прозы Генриха Сапгира. Его предсмертный «роман-версия» «Сингапур» строится на фантастическом допущении перемещения в пространстве силой любви и воображения, многовариантности человеческой жизни – и возможности странствия из варианта в вариант. В этом контекст можно вписать и прозу Виктора Пелевина, Ольги Славниковой, Николая Кононова, Игоря Тарасевича. В режиме несистемных цитат общается с Набоковым Андрей Дмитриев. (В манере Дмитриева есть и такой заход, который заставляет искать концептуальные намеки на закрытость человека, на непостигаемую тайну человеческого бытия. Человек не понятен даже самому себе.)
Поверхностное усвоение дает только эффект приблизительного сходства. Именно таков результат соотнесения с творческим опытом Набокова , исходящего из представления о самодостаточности игровых манипуляций, рассудочного конструирования, мистификаций. Мода недавних лет видела последнее (во всех смыслах) слово словесности вообще (и отечественной словесности – в частности) в феномене игрового постмодернизма, релятивизма и фикционерства, видела здесь развязку литературной истории и даже некий исход литературы в условно-парадоксальное состояние между безусловным существованием и небытием. И одним из главных предтеч этого явления регулярно назывался Набоков. Находили у Набокова и свойственную некоторым современным писателям склонность к цитатности, к центонности, к культурным аллюзиям и метатекстуальным ссылкам; и готовность иронизировать и пародировать; и субъективность мнений и оценок. В принципе речь идет о той литературе, которая в конце ХХ века максимализировала, разнообразно освоила и присвоила только-только тогда открывшиеся возможности творческой свободы, используя традиционный (нео) романтический арсенал игр, разного рода волшебных превращений, ребусов, умозрений, фантазмов, остранений, стилизаций, – и предложив его результаты как виртуальную альтернативу актуальной реальности. В этой связи опыт набоковской свободы был заразительным, а некоторые особенности его творчества оказались неотразимо обаятельными. игрового концепта
Еще один набоковский вектор актуальной прозы – : тексты о текстах, полудневниковые заметы, где автор объясняется сам с собой, вовлекая читателя в разбирательства. Рассказывая свою историю, он поминутно обнажает и обсуждает собственные приемы, примеривает на себя чужих персонажей, сомневается в необходимости писать вообще… Эта стернианская и розановская интимизация прозы, технизированная ранним Виктором Шкловским, была заново открыта и некоторое время декларировалась как новое слово. Законченное выражение практика получила в позднем творчестве Андрея Битова и в книгах прозаиков-маргиналов, тесно связанных с критикой и литературоведением (Михаил Безродный, Михаил Гаспаров, Сергей Боровиков и др.). Сам-то Набоков легко преодолевал искушение растворить сюжет и действие в комментариях. Субъективистская сосредоточенность на своих отношениях с писательским и жизненным делом в принципе ему была не свойственна и бывала им предъявлена как довольно маргинальная возможность художественной рефлексии («Дар», «Другие берега»)». Набокова вообще трудно заподозрить в переоценке субъективного я, влекущей подробное отслеживание перипетий творческого процесса. Сами по себе эти перипетии волновали его по другой причине, в связи с проблематикой смысла творческого акта, которая у него далеко уходит за пределы беседы с самим собой. эссеизм (металитературность)
Небольшой разворот ведет фрагментированную эссеистику (с появлением технических возможностей) к блогингу.
Итак, сам Набоков сделался метатемой современной русской словесности. В особенности прозаик Набоков. Можно сказать, что русская проза XXI века – в основном проза постнабоковская. Писатели, которые ни в чем друг на друга не похожи, черпают творческие импульсы у Набокова.
Зафиксируем даже нечто более принципиальное и обязывающее: в той степени, в какой русская литература нашего времени обречена на Набокова, обречена на него и жизнь человека и социума: сверяться с ним, равняться на него, спорить с ним, драматически переживать процесс сопряжения, слияния-отторжения… От него уже никому не отмахнуться. Когда-то Гоголь говорил, что Пушкин – это русский человек двести лет спустя. Может быть. Но сегодня сознающий себя, рефлексивно и творчески реализующий себя русский человек – это, скорей всего и прежде всего, Набоков. Пока что именно Набоков – наше все. Или почти все.
Однако ключами Набокова, как видим, открываются разные пространства опыта и смысла. Есть тесные и убогие каморки, в которых сам В.В. иногда существовал, но никогда не жил. А есть выходы в космос русской и мировой культуры и в тайну мироздания.
Владимир Маканин: Одинокий мастер
Владимир Маканин всегда был в литературе единоличником. Жил и умер наособицу, оригиналом, интеллектуалом, категорическим агностиком, какого трудно соотнести с модой, с тенденциями и направлениями. Не исповедальность, а остро личный ракурс повествования его конек.
Эти качества ярко проявили себя прежде всего в трех его вещах, «Андеграунде», «Иsпуге» и «Асане».
Я очень подробно писал об «Андеграунде» и гораздо короче о более поздней маканинской прозе, но не потому что ценил ее меньше; просто со временем выработалась привычка выражаться лаконичнее.
В конце 1990-х годов Маканин написал последний роман. Нет, в его творческой биографии потом еще случились и романы, и повести. Но ему уже не удалось создать что-то по своей сути более последнее, финальное, чем «Андеграунд». Тема конца, так часто возникавшая в прозе Маканина, приобретает здесь самую масштабную реализацию, можно сказать – глобализируется. Роман выглядит как закономерный плод творческой эволюции автора, как некое увенчание и – одновременно – крайнее усугубление излюбленных устремлений и мотивов. Человек без адреса: . «Андеграунд, или Герой нашего времени»
Роман Маканина всасывает в себя, как в воронку. Подавляет и впечатляет. Уже своими размерами (при отсутствии, заметим, динамичной интриги и вообще ориентации на массовый, «жанровый» вкус). Современность, казалось, больше не рождает подобных монстров. Зачем нужен такой непомерный, беспощадный объем?
Объяснений много. И каждое выглядит убедительно.
Формальное: роман складывается как безразмерный монолог некоего немолодого, опытного литератора о времени и о себе. Навык и инерция тщательного самонаблюдения и многоглаголания как бы сами собой отливаются в грандиозное романное целое.
Психологическое: большая форма захватывает читателя в свою емкость, обеспечивает вживание и сопереживание. Читатель – чем дальше, тем вернее – попадает в зависимость от героя с его заботами и проблемами, маниями и фобиями. (И зависимость эта на сей раз не весьма приятная.)
Психоаналитическое: герой загипнотизировал автора; писатель не умеет с ним расстаться.
Содержательное: в романе представлено многомерное жизнеописание, преломились значительный человеческий опыт, нечастое в современной словесности человекознание. В повествовании на редкость подробно воссоздан строй повседневной жизни.
Заложен в роман и проблемный философский план. Создана большая книга о современной России, претендующая на немалые обобщения. А Россия – предмет такой, о котором можно говорить и говорить.
Возможно также, что роман случился таким большим, чтобы Маканин успел сказать все слова. До самого крайнего.
Как бы то ни было, многозначность объемистой формы хорошо сочетается с тем, что удивляет, впечатляет и раздражает в содержании романа: этаким смысловым плюрализмом, раскоординированностью точки зрения. Легче легкого назвать роман современной репликой на «Преступление и наказание». (Так однажды добросовестно выполнил нечто вроде римейка романа Достоевского Вячеслав Пьецух в «Новой московской философии». ) Но значение этой реплики не так легко постигнуть. Роман Маканина, кажется, не слишком и глубок. Но у него большая емкость, он разнообразен, сложен. Перелистнешь последнюю страницу – и останешься в задумчивости, и не сразу сообразишь, «что хотел сказать автор».
Само двусоставное название у романа (одновременно сверхлитературное и отдающее скромным, но внятным культурным шиком) обладает некоей противоречивостью. Модное в авангардном кругу понятие «андеграунд» обозначает подпольность, маргинальность способа существования. А выражение «герой нашего времени» обещает явление в романе наиболее характерного, особо значимого для эпохи персонажа. Как удается совместить одно с другим, альтернативность и типизм? Может быть, время и место таковы, что типичным и характерным становится маргинальное?
1. Главный герой романа, некто Петрович, – несостоявшийся писатель – в начале 1990-х годов, в постсоветскую эпоху, влачит жалкое существование. Ему негде и не на что жить, а потому приходится сторожить чужие квартиры в огромном доме, бывшей советских времен общаге. Случаются у героя любовные интрижки, навещает он своего брата в психушке, беседует с врачом о разном. Как-то невзначай убивает на улице кавказца, а потом еще и своего знакомого из богемной среды, уличенного в сексотстве. На почве всех передряг он попадает следом за братом в психушку, где проходит через трудные испытания, будучи подозреваем в убийстве. Петровича накачивают лекарствами, чтобы выпытать тайну. Но уличить его не удается, и герой возвращается к своему амплуа сторожа. Все эти и другие перипетии сопровождаются обильной рефлексией персонажа о времени и о себе. Человек-оркестр. Вне свиты.
И вот именно такой странноватый, если не сказать грубее, герой вызывает в процессе чтения смешанное чувство. Он задуман без омерзения, а скорее с симпатией (страдает человек, болит у него).
В названии Петрович поименован «героем нашего времени». Но о чем, собственно, идет речь? О типичном характере в типичных обстоятельствах? Или о новом Печорине – а первый, лермонтовский, насколько помнится, отнюдь не типичен, скорее уж исключителен, являет собой почти предельное выражение ярко и свободно реализуемого принципа и способа жизни? Боюсь, правильного ответа на эти вопросы в романе нет. Героя никак не схватишь, он ускользает от однозначного понимания, Маканин всегда предоставляет ему запасной, неучтенный в предварительном раскладе выход. Но все-таки есть и довольно аккуратно прочерченные автором смысловые линии, вдоль которых удобно ходить.
Очень нетрудно представить социальное амплуа героя. Если поискать в Петровиче типовые черты актуальной неороссийской эпохи, то можно узнавать ее по его внешности и мыслям. Это, так сказать, представитель городских низов, персонаж не столько (в этом смысле) подполья, сколько – дна. Сторожит чужие «кв метры». «Деклассированный элемент», одно время – обитатель ночлежки, просто бомж. Человек без жилплощади, без угла. Без адреса.
Придонный ил. Героям Маканина редко хорошо живется. Но чтобы так плохо, как герою-рассказчику в новом романе, – редко у кого получалось. У героя ни имени, ни фамилии. В его положении они как будто излишни. Вот такая, характерная для эпохи первоначального накопления, нищета.
В согласии с литературной традицией уместно будет также угадать в Петровиче типичную жертву общества. В старину именно такие, как Петрович, литературные герои дна, «меньшие братья», искали сочувствия – и получали его почти автоматически. Эта сентименталистская тенденция не умирает, заметим, в литературе и сегодня. Не пересчитать униженных и оскорбленных, потерявших и брошенных в современной прозе. Но «типичный представитель» ведет себя до экстравагантности странно; «жертва» оборачивается убийцей. Сразу начинают возникать какое-то блики, мельканья, препятствующие четкому опознанию героя в соответствии с готовой меркой. Сложноват Петрович, хитро скроен, непросто. Душа у него то ли богатая, то ли захламленная. Поступки непредсказуемы. Разочарованный навеки интеллигент. По уцелевшему отчеству, очевидно, происходит от признанного учредителем нашей интеллигенции Петра I. Умный скептик. Всевед, знающий что к чему, постигший о человеке и о строе всю их подноготную. Проповедник всевозможных истин. Он ни собой не доволен вполне, ни миром окрест. Преисполнен страстей и страданий. Жизнь его состоит из праздных рассуждений и невыдуманных терзаний. Мизантроп-одиночка с испорченным характером, с больными нервами, изношенный, издерганный жизнью, – пожалейте же его. А чуть только пожалеете – он тут же кого-нибудь пришибет невзначай. Как вошь.
Человек-оркестр! Если вспомнить знаменитую горьковскую пьесу о людях дна, то в предтечи Петровича можно записать одновременно Сатина и Луку, Актера и Ваську Пепла…
Много ли таких людей на белом свете? А какая вам разница! Вот, один есть. Его родные сестры – полубезумные, фуриозные героини Петрушевской, в характере и судьбе которых вызывает интерес не столько жертвенная участь, сколько маниакальный наклон души. Бедные Лизы косяком впадают в остервенение. Антоны Горемыки сочиняют себя по доктору Фрейду.
«Герой нашего времени» у Маканина не является представителем господствующей на поверхности жизни популяции, не воплощает собой ничего особенно характерного, сверхтипичного. Его отношения с эпохой замысловаты. Однажды выяснится, что слово «наше» в формуле «герой нашего времени» нужно, пожалуй, прочесть с ударением. Писать курсивом: наше (таких курсивных слов, особенно местоимений, в романе много). Текущее короткое время для героя и, возможно, для автора – «ваше». «Новое поколение» выбирает коммерцию.
Его, этого настоящего времени, герой – «бизнесмен». Скажем, разбогатевший сосед Ловянников: в своем роде талант; по логике фамилии – ловкий делец, настроенный на крупный улов (но не гнушающийся и мелким). К этой прирастающей буржуазности, к делячеству Петрович никакого отношения не имеет. Бизнес, капитал – это не для него. Этим его не купишь, не для того родился. Новые люди без труда обводят таких Петровичей вокруг пальца. Преследуя личный интерес, Ловянников обманывает героя, к чему тот вполне готов и с чем легко соглашается.
Петрович – совсем другой, особый, отдельный. Это-то в нем и ценно автору. Я бы даже заострил: он – уникален по сумме своих качеств. Пожалуй, даже неправдоподобен. Пребывает на острой грани правдоподобия. Герой не жертва строя, а сам себе строй.
2. Что важно: Петрович сам назначил себе жизнь. Квартирный вопрос как таковой героя, нужно заметить, почти не испортил. Не он его испортил. Равно как и козни власти. Рассказчик не просто приобвык к своему положению, он и сочинил это себе как житейское амплуа, как особое культурное положение. Все-таки словцо «андеграунд» попало в название не по недоразумению. Дно – внешняя характеристика среды, в которой пребывает Петрович. Подполье (статус агэшника, человека андеграунда) – его самосознание, его свободно выбранная культурная прописка. Лестная для героя суть пребывания в андеграунде (сиречь в культурном подполье, в катакомбах) – неучастие, невовлеченность, свободная рефлексия. Подземники – они, как утверждает Петрович, всегда подземники. Без оглядки на социальный климат. Им что брежневский маразм, что конвульсии «дикой» демократии, что авторитарная реставрация. Их время – не общезначимое социальное время, но некое особое состояние духа, специальный душевный изгиб. Свободный детерминист.
Петрович – самый свободный в романе человек.
Первый, внешний, наглядный срез этой свободы: у героя – пропасть свободного времени. Он редко чем-то занят. Все с утра собираются на службу – а он присел на скамейку и размышляет о бренности живущих, о конце литературы и пр. Со стороны, конечно, такой чудак выглядит бездельником, паразитом, мелким ничтожным приживалом. Но это – для непонимающих. А сам герой, кажется, свой статус ценит. И не хочет менять на другой.
Более глубокий уровень свободы – абсолютная независимость в суждениях и поступках, достигающая крайней степени произвола. Герой живет, как хочет. Характерно тут уже то, что Петрович представлен литератором. Литераторы часто делают и героем, и рассказчиком – писателя, поэта, художника. Натуру обычно крайне творческую, душевно сложную, с большим жизненным запросом и километром рефлексий. Часто он такой почти неотличим от автора. У Маканина ремесло героя оправдано общим заданием: писатель – фигура вполне суверенная, способная дистанцироваться от мимотекущей жизни и освоить нестандартные степени и формы независимости.
Еще более важен специальный нюанс: маканинский сочинитель, вспомним, сочинять перестал. Расхотелось. Даже рефлекс отбился. Тоже выбор – и он выглядит как свободное решение, способ самоопределения, не для всех доступный. Петрович несет, если угодно, бремя писательского опыта, писательской зоркости к жизни – в себе. Но на своей машинке больше не стучит. Просто таскает ее за собой как пустой знак отсутствующей сущности. Самоупразднился. Числится писателем в профанном кругу общежитских соседей. Лишь раз, что ли, приходит ему в голову игривая мысль водрузить пишущую машинку на невероятные по габаритам ягодицы временной подруги Леси: в этом-де положении еще бы и можно что-то сочинить.
Но сие, наверное, шутка. Не шутка же – заявка героя на чуть ли не отмену, снятие писательского ремесла. Герой не отвергнут литературой, литературной средой, а сам отверг их обе. Отлюбил. Не жизнь героя – дремучая, убогая, унылая – съела в нем художника; он сам не захотел. Ход рассуждений рассказчика таков, что практически не оставляет в жизни места для литературы. Литература кончилась, потому что нет слов. Нет Слова. Слово к концу ХХ века обесценилось, омертвело, разменялось на демагогию… Так он считает. Это популярная идея, имеющая, согласимся, кое-какие права на существование. К ней мы еще вернемся, ведь конец слова для героя (и автора?) – знак более общего неблагополучия. Пока же продолжим описание степеней свободы героя.
К ним относится способ интимной жизни. Герой не берет на себя стабильных обязательств и не собирается никого приручать и ни за кого отвечать. Для него не писан этот закон всемирного тяготения. Его подруги – однодневки; сбежался-разбежался. Его друзья – то ли существуют еще, то ли уже нет: появляются нечасто, в функции довольно служебной. Единственное исключение – сумасшедший брат Веня, заботы о котором гнетут Петровича к «земле». Заботы, кстати, небытового плана (Веня пребывает в психушке, кровом-пищей обеспечен). Петрович осуществляет только душевный труд – помнить о брате, навешать его, говорить ему какие-то слова, стараясь что-то в нем будить… Но этот сюжет постоянной заботы в жизни героя – единственный. В этой ситуации есть принужденность и насильственность, которых Петрович обычно избегает.
Жизнь на дне монотонна. В ней ничего не случается. Но коль скоро герой наш предназначен для того, чтобы заявлять о своей свободе, роман приобретает интригу. Герой берет себе свободу силой. Распоясавшись, философ и мученик совершает практически на наших глазах два убийства.
Разрешив себе практически все, Петрович, однако, не собирается ни за что отвечать. И с этим связан мыслительный кульбит, который он совершает. Умом герой должен как-то снять с себя ответственность за происходящее, оправдаться подчистую. И делает это. После первого убийства ему приходят в голову аналогии с дуэлью (вероятно, по ассоциации с кавказскими сюжетами лермонтовской прозы и жизни). Затем он же лукаво привлекает ради этого, на сей случай, испытанную логику детерминизма. «Правит нами век казенный», как поется у соседей за стенкой. «…это жизнь. Это жизнь, мы ее живем», «у жизни свой липкий цемент», – такова существенная лейттема романа. Эпоха такова: «время целить в лбешник». Привлечена тяжелая артиллерия самого унылого позитивизма-материализма. У меня-де есть только «мое бесправное прошлое», я нажил только комплексы – вот и убил. Случилось так.
Занимательная арифметика: выведем на время свободу за скобки – и внесем в них предопределение. Рассказчик, натурально, и про идею Сартра слыхал о существовании как об ежемоментном выборе себя. И вот что он на сей счет думает: «Человек выбирает или не выбирает (по Сартру) – это верно. Но про этот свой выбор (Сартру вопреки) человек, увы, понимает после. (Понимает, когда выбора уже нет, сделан. Когда выбор давно позади.)». Иными словами, Петрович ничего от сартровского экзистенциального выбора на долю человека не оставляет.
Если же присмотреться к тому, как описывает Маканин происходящие с героем катавасии, то самый резон согласиться с Петровичем. Свои проступки он совершает в некоем стихийном порыве, безрассудно, повинуясь нахлынувшей откуда-то страсти, с непостижимой неизбежностью. Что-то дремуче-иррациональное вторгается в жизнь, лишает разум силы, – и никак с этой бедой не справиться. Некуда деваться, нужно, стало быть, убивать. Такие вот дела. У непросвещенного простонародья подобная диалектика сочетания свободы с необходимостью называлась «и рыбку съесть, и на лошадке покататься».
3. . Размышляя о генеалогии персонажа, нетрудно заметить: Петрович в романе очень по многим статьям проходит как романтический герой, наследник и преемник Онегина и Печорина, Базарова и Раскольникова, всех «лишних людей» русской словесности. Это выглядит парадоксом. Это действительно парадокс. Утратив не только надежды на успех и славу, но и имя, и призвание, Петрович остается закоренелым романтиком, претендующим на исключительность. То ли он Байрон, то ли другой
Та свобода, которую столь старательно культивирует персонаж, – добродетель романтическая. Но уж если перед нами романтик – то не из плеяды вечных юношей, мечтательных немецких романтиков «первого призыва», иенцев там или гейдельбергцев, или, наконец, прекраснодушных английских лейкистов рубежа XVIII – XIX веков. Скорее он относится к более поздней породе разочарованных уксусных пандраматиков, к байроническому племени, – высокомерный бунтарь-неудачник, потерявший все и не обретший ничего.
Продолжать литературные занятия он не хочет. Считает излишним и нечестным. Такая совестливость подкупает. Но душевное обрамление ее выглядит двусмысленно и выдает немалую амбицию героя. Это претензия на особого свойства разочарованную и пресыщенную гениальность, на утомленное всезнание. Петрович познал все на свете истины и их общую относительность; новых больше не будет. Причем познание это специфично: герой разуверился и в человеке, и в человечестве, и в Провидении. И поставил точку. Сторож. Но не сторож истины бытия. Его, Петровича, истина принадлежит не столько бытию, сколько личному вкусу. Общажный Сократ не будет стремиться ни к какому новому познанию, он свободен от майевтической задачи. Скорее циник (киник), чем учитель человечества, скорее декадентствующий гурман, чем стоик и аскет.
Герою присуще еще одно не весьма симпатичное романтическое качество: высокомерное презрение гения к простым людям. Печорин в сравнении с ним гуманист и филантроп. На мир и на человека Петрович смотрит, как правило, свысока. Человек ничтожен. Жалок. Мелок. Убог. Человеческого в мире мало. Вслушаемся: «Мой нынешний дар в том, чтобы слышать, как через двери пахнут (сочатся) теплые, духовитые квадратные метры жилья и как слабо, увы, припахивает на них недолговечная, лет на семьдесят, человеческая субстанция». Еще: «Им не до бытия: им надо подкормиться». И тут же: «их зажеванное бытие»; «говно, каким он был».
Это вообще первый, автоматический его рефлекс: недоброта. Эмоция повседневная, механическая. О случайном соседе по комнате вот так механически помыслилось: «обезьяна, а вот ведь умеет думать». Так же спонтанно устами героя производится в романе полив публики чем-то жидким. Люди увидены довольно гнусноватым взглядом знатока, без критического самооотчета. На пару абзацев возникает, к примеру, некая старуха Ада Федоровна – и вот что нам про нее сообщается (как, выходит, главное): «Ада Федоровна любит пригреть. Ей скучно. Остатки доброты у женщины сопряжены с остатками жизни. Лет пять назад Ада Федоровна еще трепыхалась, как догорающая свечка: в конце пьянки вдруг доставала заветную четвертинку – и самый подзадержавшийся, поздний по времени мужик, подпив, оставался и просыпался в ее постели. Но теперь все фокусы позади. Болотный тихий пузырь. Только доброта». Кто сомневается, что сказанное может выглядеть правдой. Но какая это убогая, немилосердная и однобокая правда.

