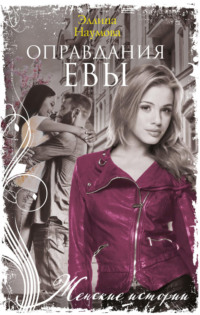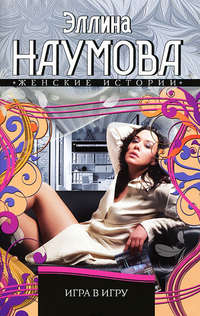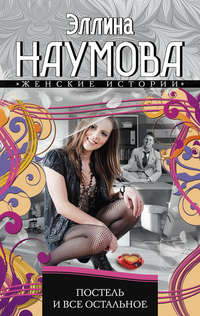Полная версия
Лицо удачи
– Извини, мне пора на работу, в клинику. То есть уже опаздываю.
– Я слишком поторопился? Но мы ведь еще увидимся здесь? – всполошился он.
– Разумеется. Выгулы никто и ничто не отменит.
Катя подозвала Журавлика и ушла. Она знала, что больше они не встретятся. В Москве ведь это просто. Выбралась из дома в определенное время и за пять минут зорко углядела несколько знакомых собачников. Кому-то кивнула, кому-то помахала, к кому-то присоединилась на площадке. А выйди на полчаса раньше или позже, собачники и собаки будут совсем другие. И так с утра до ночи. Иногда жутко становится. Не сообразишь, по своей ли улице ведешь Журавлика. И сколько же в этом городе людей и животных.
В общем, оттолкнула тогда Катя руку судьбы. А ведь бабушке не возбранялось жить в любом городе, парню – снимать квартиру. Не исключено, что в его семье неизбалованные провинциалки котировались выше разборчивых москвичек. И даже превратись он на ее глазах в равнодушного владельца импортного элитного щенка, свежая обида могла разбавить неприятные воспоминания о нападении Кирилла. Но на нет и суда нет.
И медсестра Трифонова изредка питалась бульоном и чаем, все время совершала заметные глотательные движения, рвано спала с пяти до шести утра, ходила с голой шеей даже в мороз, каждый день дрожала под ледяным душем, паниковала на улице, плохо соображала и общалась с людьми двумя словами – «да, нет». Она очень похудела. Кожа, через которую и раньше просвечивали все жилки и сосуды, теперь казалась не белой, а прозрачной. И не казалась, а была сухой и шершавой. Волосы, сколько ни мой их, как ни бодри кондиционерами, висели хилыми ноябрьскими сосульками. Светло-голубые глаза выцвели, как застиранное хозяйственным мылом бельишко. Да еще и утратили какое-либо выражение, будто у слепой. Голос постоянно срывался: было очевидно – девушка вот-вот зарыдает.
При этом на работе никто не осмеливался спросить, что с ней творится. Потому что трудилась Катя как-то до предела пределов сосредоточенно и вдохновенно. Держала наготове нужный хирургу Серегину инструмент еще до того, как он его просил. На перевязках чудилось, что марлевые накладки и бинты отслаивались от ран и ложились на них по мановению ее длинных худых пальцев, а не при их участии. Иголки попадали в вены, не говоря уж о мышцах, будто сами собой. Ее чуть виноватая полуулыбка и легкие кивки вместо ответов почему-то воспринимались больными с нежностью и благодарностью. Похоже, только они чувствовали, что Кате гораздо хуже, чем им, что она при смерти, но вот ведь терпит, исполняет то ли долг, то ли ритуал, борется. И, черт возьми, у пациентов улучшалось настроение при виде явного страдания медицинского работника.
Долго продолжаться это не могло. И тут не самой удачливой Кате Трифоновой в кои-то веки повезло. В частной клинике старались без нужды не тасовать хирургические бригады. Вернее, могли себе это позволить. Опытные доктора не ассистировали друг другу, этим занимались молодые, которым начальство велело учиться даже во сне. Одна медсестра подменяла другую на операции не своей команды только в исключительных случаях. Запрет болеть, в отличие от запрета курить, в договоры с персоналом включен не был. Но подразумевался еще на собеседованиях. В общем, хирург Серегин должен был отправиться выступать на международную научную конференцию. А потом то ли стажироваться, то ли, наоборот, проводить мастер-классы в Израиле. В таких случаях его помощники, даже неустанно совершенствующиеся ассистенты, уходили в отпуск на две недели. Мероприятия планировались заранее, еще в начале года всем выдавали распечатанный график. Но на сей раз Катя о нем забыла, поэтому восприняла обещание Серегина увидеться в следующем месяце как чудо.
Впервые за несколько месяцев она словно летела домой поверх голов прохожих. То есть внизу на автопилоте брело под завязку налитое усталостью и отчаянием тело. А сверху трепыхался легкий воздушный шарик, почему-то молочно-желтый, который и был Катей. Да, бесчувственная плоть держала его за ниточку. Но, как же иначе, ведь он хотел свободы, он мог вырваться и пропасть в радостном одиночестве, эгоист. Это было несправедливо по отношению к… ниточке. Катя твердо знала, что ниточка пострадать не должна. Так она добралась полным набором – биоробот, привязь и надутая резина странного цвета.
Едва закрыв за собой дверь, Катя смогла собрать себя в кучу. В тенетах сотового забилась эсэмэска от квартирной хозяйки: «Позвони срочно». «Позвони и заплати, – скривилась Катя. – Простота не хуже воровства. Она и есть воровство чужих нервов и времени». Но отчего-то сразу ткнулась в контакты.
– Екатерина, мы с сестрой возвращаемся послезавтра утречком! – низкий голос ввинчивался в ухо, как саморез под отверткой. – У тебя только до этого срока и заплачено. Сдавать-то комнату я больше не могу, она в ней будет бедовать. Так что придется тебе съезжать. Ты меня слышишь, Екатерина? Чего молчишь?
– Слышу. Все поняла. До свидания, – почти шепотом сказала Катя. И растерянно обратилась к крутившемуся рядом Журавлику: – Ну что, возвращается твоя хозяйка, разбойник. Как говорится, не прошло и года, дождался.
Она осеклась. Старуха-то возвращается, собака-то дождалась, а что делать жилице? Разве можно за два дня снять комнату? В сущности, ей приказали выметаться. Нормально. То есть чудовищно. То есть прекрасно. Катя вдруг осознала, что ненавидит эти стены, двор, тротуар вокруг. Только Журавлик, бросившийся грызть подонка и заставивший его ослабить хватку, был дорог ей.
«Дрянная баба, – подумала Трифонова. – Могла бы предложить на раскладушке в кухне ночевать за деньги, пока что-нибудь не найду. Все делают как себе удобно, а другие пусть сдохнут и сами всегда будут в своей гибели виноваты».
Катя растерянно застыла посреди комнаты. Простонала: «Не могу я больше». И снова повлеклась в кухню, неприязненно думая, что это мотание туда-сюда не является ни жизнью, ни смертью, но гробит минуты, часы, дни. Пошарила рукой в дальнем углу навесного шкафчика, вынула стограммовую плоскую бутылочку с коньяком. Дешевка, конечно, но изображение медалей на черной этикетке несколько успокаивало. Катя перелила коньяк в стакан, намереваясь выпить залпом, но и глотка сделать не успела: от своеобразного запаха лоб покрылся испариной, а внутренности едва не вывернуло наизнанку. Трифонова отчаянно дышала ртом, пока спазмы не прекратились. Быстро выплеснула пойло в раковину, ополоснула стакан. Воду оставила течь, чтобы смыла все до последней капли. Завинтила крышку на миниатюрной баклажке. С размаху швырнула бутылочку в мусорное ведро. И принялась за Анну Юльевну Клунину:
– Ох, доктор, доктор… Ведьма настоящая. Отвадила навсегда от спиртного, да? А как мне теперь спасаться, когда невмоготу? Как избавляться от этого проклятущего страха? Я уже полгода не сплю. Мне бы только напиться, забыться и выспаться. Один раз, разок, разик…
После смерти Андрея Валерьяновича Голубева Катя начала прикладываться к бутылкам. Анна Юльевна заметила и прикрикнула: «Не смей!» Трифонова, считавшая, что после пережитого имеет право на все, могла бы ее не услышать. Подействовали тогда не слова, а взгляд и тон Клуниной. Будь они осуждающими или грозными, Катю, которая уже вовсю начала заигрывать с алкоголем, не проняло бы так. Но доктор смотрела и говорила брезгливо. Не презрительно, не свысока. Не гадливо. А именно брезгливо, когда люди все еще рядом, бок о бок, но один другому уже отвратителен.
То ощущение Катя до сих пор испытывала в ночных кошмарах. Абсолютная уверенность, что доктор сейчас развернется и уйдет, а ее медсестра навсегда останется одна на целом свете. Потому что неизбежно кинется к другим, и они тоже брезгливо скривятся и заспешат прочь. И винить будет некого, кроме себя. Ей самой были противны нажравшиеся в хлам девчонки из общаги, то канючившие, чтобы их жалели, то агрессивно бросавшиеся на тех, кто жалел. Любая думала, что остальным нужно воздержаться. И только у нее по-настоящему убийственные обстоятельства, только ей не можно, а нужно, чтобы не сдохнуть, и простительно. Катя тогда взяла себя в руки. А сейчас упрямо бросила в стенку:
– Я ведь не собиралась напиваться. Самую маленькую емкость купила сто лет назад. Хорошо же, Анна Юльевна! Вы лишили меня доступного релаксанта, вам и советовать, что мне делать. – Она вдруг почувствовала, что неимоверная тяжесть в ней будто шевельнулась, приподнимаясь. Замерла в безумной надежде на облегчение. Потом горько вздохнула: – Нет, просто улеглась поудобнее, сволочь. Ее не выгонишь, не вытравишь. Только взорвать к чертовой матери. Но чем?
Катя посмотрела на часы. Рабочий день врачей-терапевтов давно кончился. С тех пор как Трифонова стала операционной сестрой, виделись они редко. Но Катя неизменно звонила доктору на сотовый и поздравляла с каждым праздником. Раньше, чем маме с папой и бабушке звонила. А по личным делам первый и последний раз беспокоила Анну Юльевну, когда стояла над трупом Голубева. «Предпоследний», – усмехнулась она и коснулась экрана.
– Добрый вечер, Екатерина, – раздался знакомый, всегда чуть насмешливый голос. – С отпуском тебя.
– Здравствуйте. Спасибо. Мне так надо с вами поговорить. Я… э…
Катя вдруг сообразила, что не может объяснить причину звонка. Чего она хочет? Поблагодарить Клунину за то, что не дала спиться? Или упрекнуть в этом? Но свои родные доктора на то и существуют, чтобы выручать забуксовавших в глине нерешительности медсестер.
– У меня после работы было одно мероприятие. Так что я еще в окрестностях клиники. И где-то минут через двадцать проеду твою станцию. Могу выйти. Подбегай, если дома, – сказала Анна Юльевна. И, совсем как в их поликлиническую бытность, добавила: – Стой возле турникетов, я поднимусь и дам тебе карточку.
У Кати была и своя карточка, и деньги на ней. Она уже могла в кафе доктора пригласить, если бы та согласилась. Но забота Анны Юльевны растрогала до слез. И, вместо того чтобы завопить «бегу», она просипела:
– Я сама войду, мне все равно потом к знакомой ехать. Вы в каком вагоне будете?
– Ближе к концу.
– Я уже собираюсь, Анна Юльевна. Вам не придется меня ждать.
Вскоре Трифонова быстро шагала по улице. Она не обращала внимания на глазеющих мужиков. Ее уже сто раз могли разрезать на куски. И еще сто раз смогут. Но неизвестно когда. А бездомной она окажется уже послезавтра. Надо было задать Клуниной главный вопрос о смысле жизни. И бежать к компу, искать всю ночь варианты. Ибо с утра придется обзванивать агентства и владельцев. Господи, опять. Сначала теряешься от огромного числа предлагаемых к сдаче закутков. Потом начинается. В объявлении написано, что комнаты изолированные, а они смежные. Тебе, разумеется, предлагают проходную с условием, что хозяева будут смотреть в ней телевизор. Или выясняется, что две комнаты из трех уже снимают психически неустойчивые личности. И надо поладить с ними кровь из носу, чтобы не выжили тебя из комнаты, как шестерых твоих предшественников. А пять минут пешком до метро, которые оказываются пятьюдесятью, классика жанра. Потом уже по мелочи – откуда-то до работы доберешься только кружными путями за два часа. Куда-то въехать можно не раньше чем через три месяца. Где-то хозяин – одинокий возбужденный маньяк с сальной рожей. За вполне приемлемые квадратные метры требуют залог и чуть ли не годовую оплату вперед. А еще некоторые желают, чтобы постояльцы оплачивали коммуналку и за себя, и за них. Есть любители навесить на жильцов одной комнаты уборку всех помещений и балкона, на который запрещают выходить. В общем, хорошо, если останется два места на выбор.
Катя невольно снова вернулась мыслями к своей квартирной хозяйке. Свежая обида была весомее, чем прежние тухлые. Безответственная девица могла бы спалить эту тесную нору и уйти. Потерять или отравить Журавлика, чтоб не мешал. Взломать закрытую комнату, поселиться в ней, а свою сдать. Обокрасть богатых соседей и исчезнуть. Устроить наркопритон. Да, и проституток сюда побольше. Связаться с лихим парнем, мастером по изготовлению фальшивых документов, и загнать жилплощадь каким-нибудь придуркам. А она? Переводы отправляла день в день. Счета оплачивала регулярно. Собаку выгуливала. Ни одной деревяшки не поцарапала, чашки не разбила, цветка не засушила. Пыль в доме не копится, занавески не прокурены, сантехника ни разу не ломалась, холодильник не тёк. И вместо спасибо – пошла вон. Да пойдет, куда денется, знает, хозяин-барин. Право собственности свято. Но неужели нельзя по-человечески, то есть заранее предупредить? Когда же все эти твари нарвутся на тех, кто покажет им кузькину мать? Только ведь не поймут, за что страдают. Бога затеребят. Волки в овечьих шкурах, а не люди.
Трифонова наконец спустилась в подземку. Клунина на ее глазах вышла из расцвеченного изнутри летними пассажирами вагона. Все такая же серьезная, усталая, миловидная. Кто понимает, залюбуется. Двинулась к скамейке и встала рядом. Суеты в ней не было ни на грош. А вот энергия чувствовалась. Катя ускорилась, будто на прием в поликлинике опаздывала:
– Ой, Анна Юльевна, какая вы рождественская!
– Приветствую, Екатерина. В смысле?
– Долго объяснять. Прекрасно выглядите.
– Можно я не буду дурой? Глупо делать ответный комплимент девушке, которая вдвое моложе. Как дела, Катя?
– Хозяйка достала своими фокусами, – неожиданно ляпнула медсестра и прикусила язык. Досчитала до трех и спросила: – Я не из-за этого звонила. Анна Юльевна, что надо делать для самосохранения, а?
– Екатерина, что стряслось?
– Ничего особенного. Хочу кое от кого отделаться.
– Надеюсь, не от хозяйки?
– Доктор, мне не до шуток.
– Слишком много пообещала не тому мальчику? – в голосе Клуниной послышалось облегчение. Она даже улыбнулась: – Самосохранение, Кать, обеспечивают всего две линии поведения: делать то, чего от тебя ждут, и делать то, чего от тебя никто не ожидал. Нехитрый набор. Самое трудное в жизни – определить, когда выгодно одно, а когда другое.
– Доктор, вы гений. – У Кати сделался отсутствующий вид.
Анна Юльевна отлично его помнила. Сказала, не очень надеясь быть услышанной:
– Не зависай тут, а то останешься без кошелька и паспорта. Или поезжай к своей знакомой, или ступай на воздух. До свидания.
Она шагнула в сгустившуюся при виде поезда толпу.
Катя медленно поднялась и направилась к лестнице. В их семье бабушка с мамой делали две грандиозные уборки. На Пасху в доме воцарялась особая строгая чистота. Она пахла выпечкой и звучала каждой отмытой стекляшкой, каждой натертой мастикой дощечкой. И раньше Трифонова думала про Клунину: «Пасхальная женщина». В Рождество было так же чисто, но не так строго – елка, лампочки, мишура. Вот Катя и назвала сегодня доктора рождественской вслух. Та, перестав бегать по участку, освоившись в высокой зарплате, начала делать прическу и носить каблуки. Всего-то и надо было, чтобы стать заметной.
Анна Юльевна тоже думала о Кате. Девочка потеряла внешнюю индивидуальность. Из стайки молодых москвичек уже не выделишь. А говорит, как прежде, загадками. «Вы такая рождественская»… И думай, что имела в виду. Лучше бы было наоборот. Но она явно продолжала делать все, чтобы ей жилось как можно труднее. Что с ней будет дальше? Продолжит взрослеть, как все. И уже не пропадет, это доктор Клунина чувствовала остро.
Трифонова и не собиралась. Кем же надо быть, чтобы сидеть в квартире, где тебя чуть не задушили? Но Анна Юльевна права, этого от нее никто не ожидал. Думали, на следующий же день и след этой убогой простыл. Сбежала. Куда медсестры бегут из убогой комнатушки? В такую же в длиннющей многоэтажке. В Новой Москве? В Подмосковье? А она найдет комнату в центре. Или, наоборот, убийца в курсе, что жертва не тронулась с места. Значит, ей действительно нечего скрывать. Потом вернулась старуха, то есть целых две старухи. И девицу выставили. Тогда эта кретинка двинула в Новую Москву? В Подмосковье? А она, правильно, найдет комнату в центре. И ни одна сволочь ее не выследит, уж потеряться в метро легче легкого, когда тебе давно не нужно читать указатели.
Эйфория грядущих перемен начала ослабевать – Трифоновой снова захотелось жалеть себя и выть. «Мне необходимо есть хоть что-нибудь, мне силы нужны», – подумала она. И зашла в супермаркет. Купила минералки, сока и несколько баночек детского пюре – овощного, фруктового, мясного. Она надеялась, что сумеет заставить себя глотать это протертое нечто. Оказалось, что еда для младенцев очень дорогая. И кто-то еще удивляется, что люди мало рожают. Произвести на свет легко. А вот прокормить при таких ценах не каждой удастся. Про одеть, обуть, выучить даже задумываться было страшно.
Вернулась домой, накормила Журавлика, опасливо съела яблочное пюре. Действительно, желудок такая пища не напрягла. Но гадость была редкостная. Как сказал один пациент, впервые отведав диетической каши: лучше смерть. И все-таки Катя была уязвлена. Медик, называется! Не догадалась попробовать что-нибудь кроме бульона! В ознаменование избавления от ненавистной жидкости Катя вывела песика гулять. У нее было странное состояние. Казалось, что она сутки двигала мебель или вскопала огород. Плечи болели и не желали расправляться. Ноги и руки немного дрожали. Типичная усталость. Но ведь она ничего не делала, только психовала и ела. Стоять во дворе, а потом ловить резвого хулигана было невмоготу. И Катя повела его по улице, обсаженной тополями лет шестьдесят назад.
Вскоре она озадачилась и сообразила, что заглядывает в арки, ища укромное, но не очень темное место, где можно пересидеть ночь, даже вздремнуть до рассвета. Пространство было знакомым. Вон справа скамейка в дворовом тупичке. А слева маленький скверик с давно не работающим фонтаном. Катя знала, что Анна Юльевна приютит, не успей она найти кров. Девчонки в общаге что-нибудь придумают из солидарности, даже если ни одной знакомой там не осталось. Но Катя ни с кем не собиралась объясняться. Никого не хотела просить. На крайний случай оставался какой-нибудь хостел. Только у нее возникла потребность в настоящей бездомности. Ночь на улице была бы пиком ее мытарств. Да, преодолимым, не гибельным. Но после него должен был наступить перелом не в судьбе, не в обстоятельствах, а в самой Кате. Ее истерически занимало, какой она будет наутро.
К концу прогулки Трифонова сникла. Центр Москвы – средоточие блеска, шика и простора. Разве богачи сдают чуланы в роскошных квартирах? А если вдруг мрачные извращенцы занимаются этим, то за какие деньги? От тошнотворной правды несчастная медицинская сестра лишилась остатков воли. Добравшись до своей постели, она не включила компьютер. Стоило ли мудрствовать лукаво, выбирая по заведомо неверному расчету? Утром зайдет на сайт в «аренду комнат» и будет звонить по всем номерам подряд. Ей было все равно, куда перебираться. Но даже при такой неразборчивости снять жилье за день не удастся. Сон грубо шваркнул ее тяжелым кулаком по затылку, покрошив остатки мыслей в салат. И всю ночь Катя пыталась разобраться, из чего именно он сделан.
Разбудила ее привычная мелодия. Катя нащупала телефон возле подушки и решила, что ей снится звонок Анны Юльевны. Но голос-то чудиться не мог. Слуховых галлюцинаций у Кати не было даже в моменты полного отчаяния от бессонницы и бескормицы.
– Екатерина, ты еще не угробила хозяйку, я надеюсь? И не пытайся. Дочь моей подруги ушла из дома и сняла квартиру. Но платить одной дороговато. Мать решила, что надо подсуетиться и найти ей хорошую компаньонку, пока она сама не нашла плохую. Я сказала, что ты вредная, но порядочная. Ее больше впечатлила твоя профессия. Так что медсестра – это звучит гордо. Тебя интересует такой вариант? Тебе нужно больше общаться с ровесницами, а то, как я догадываюсь, с пенсионерками не складывается.
– А где квартира? – обалдело спросила Катя.
– По-моему, на севере.
– А когда можно переехать?
– Насколько я поняла, чем быстрее, тем лучше. Прислать эсэмэску с номером? Свяжись, поговори с девочкой, от тебя не убудет.
– Да, пожалуйста, доктор, миленькая… Вы ведь прямо сейчас пришлете? Я не знаю, как вас благодарить. Вы не представляете, что вы для меня значите! – Трифонова впервые за годы в Москве утратила свою вяловатую сдержанность.
– Ты на что попало-то не соглашайся, – немного испугалась ее реакции Клунина. – Расспроси, посмотри, обмозгуй, что называется.
– Анна Юльевна, еще секундочку, только один вопрос, – молила Катя, что было вообще из ряда вон. – Мне очень нужно переехать и очень срочно. Я не знала, как успеть. И тут ваш звонок. Скажите, это бог обо мне вспомнил, да? Или просто так повезло?
– Катя, успокойся. Полагаю, дело в социальных сетях. Я вчера зашла в Фейсбук, а в ленте клич заботливой матери. Я вспомнила, что ты первым делом емко ругнула свою квартирную хозяйку. Потом меня насторожило слово «самосохранение». Какое-то оно не твое. Я связалась с подругой. Вот и все.
– Спасибо, доктор.
– Не за что. Лови номер и не унывай.
Через минуту Катя выстукивала цифры на экране. Гудок, гудок, гудок… Потом:
– Слушаю, говорите.
– Привет. Я Катя. Трифонова.
– Отлично.
– Мне номер дала Анна Юльевна, мой доктор…
– А почему она ко мне своих больных направляет?
– Нет, она не в том смысле доктор, что я больная. Насчет квартиры…
– Уже понятнее. Вы от моей мамы?..
– Нет, я маму не знаю, с ней дружит Анна Юльевна.
– Ваш доктор?.. Во-первых, давай на «ты». Во-вторых, я уже запуталась. Согласна платить пополам?
– Это сколько?
– Двадцать пять тысяч. Плюс три с небольшим коммуналка. Потянешь?
На шесть тысяч больше, чем сейчас. Это грозило ужесточением и без того не ласковой экономии. Но читать десятки объявлений и испытывать одно разочарование за другим было невыносимо. Думать о сосуществовании с хозяйкой-пенсионеркой тоже. Клунина права, хватит с нее старух, которым жить охота, но не на что и незачем.
– Согласна, потяну. Где именно квартира? Север Москвы большой.
Собеседница рассмеялась:
– Тайны хранить умеешь? От своей Анны, как там ее по батюшке? До мамы не дойдет? Я, если честно, немного путаю следы. Боюсь, родители меня не поймут, если узнают, где на самом деле сняла. Они у меня такие… Не буржуазные. Или тебе конкретно на севере удобно?
– Могила! – воскликнула Катя. – На север плевать с десятой вышки. И знаешь, я тоже очень постараюсь, чтобы никто не узнал о моем новом местожительстве.
– Наш человек. Тогда я скину адрес. Подъехать сможешь? Поговорим нормально.
– Тебе на работу не надо?
– Суббота сегодня.
– Ой, свершилось, я прочувствовала, что в отпуске! Через пару часов буду. Мне еще собаку выгуливать. Хотя она не моя.
– И это подходит. У меня дома кот и хаска. Скучаю. Но сюда не пускают с детьми и животными. Ладно, до встречи, жду.
Трифонова читала эсэмэску неведомой девушки. И никак не могла перейти от названия улицы к номеру дома. Снова, и опять, и вновь буквы складывались в два слова – Большая Садовая, Большая Садовая, Большая Садовая… Возмутительная сумма теперь казалась мелочью. И что, вся аренда пятьдесят тысяч и жировка? Всей квартиры на Маяковке? Точно? Может, все-таки пятьсот? Невероятно.
«Анна Юльевна, разве в социальных сетях дело?» – укоризненно шептала Катя. Она уже знала ответ, но еще боялась себе поверить. Это было везение собственной легкомысленной персоной. Оно вторые сутки то ли обнимало ее, непонятливую, за плечи, то ли трясло за шкирку. А она все задавала доктору наивные вопросы. Отвыкла от того, что ее словно ведут за руку кратчайшей, удобнейшей, приятнейшей дорогой. Предупреждают о бугорках, не давая споткнуться. Переносят даже через крохотные лужицы. Забыла, как само собой, получается что хочешь. «Любой каприз за ваши деньги». Нет денег? Возьмите! И продолжайте капризничать. А главное, везунчик перестает догадываться, что бывает иначе. Просто мир так устроен. Он замечательный. В нем хорошо.
Катя не улавливала, что в ее интерпретации везение становится добросовестной няней или любящей матерью. А она сама впадает в раннее детство. Да и какое это имело значение. Ничего, кроме твоей ближайшей цели, не имеет значения, когда везет.
4Трифонова очнулась. Снег кончился и уже таял вместе с магией, которую создал. Только на нехоженой земле Патриков и в развилках крупных ветвей еще держался. Но ему явно недолго осталось. И Козиха, и Тверской бульвар, и Малая Бронная, по которой девушки неспешно возвращались, были пустынны. Изредка замаячат впереди неясные силуэты и растворятся в переулках и дворах, не дав времени сообразить, мужские они или женские. Впрочем, кажется, пол странствующих под фонарями не занимал даже их самих.
Катя с трудом привыкала к здешнему безлюдью. По Садовому еще бродит молодежь, но шагни в сторону – ни души. Возле расположившегося в нежилом доме кафе смолит толпа, а обойдешь ее и не встретишь до конца улицы никого. Через пять минут развернешься обратно, уже и толпы нет. Чудеса. Поначалу Трифонова была уверена, что центр бурлит любым своим квадратным метром круглосуточно. Ее уже не так сильно, как раньше, терзала мания преследования. Но она благоразумно отказывалась вылезать из дома после сумерек.