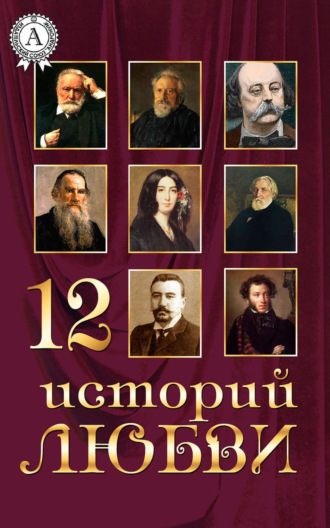
Полная версия
Евгений Онегин 6
К этому еще присоединилось присутствие в тридцати верстах от него Кити Щербацкой, которую он хотел и не мог видеть. Дарья Александровна Облонская, когда он был у нее, звала его приехать: приехать с тем, чтобы возобновить предложение ее сестре, которая, как она давала чувствовать, теперь примет его. Сам Левин, увидав Кити Щербацкую, понял, что он не переставал любить ее; но он не мог ехать к Облонским, зная, что она там. То, что он сделал ей предложение и она отказала ему, клало между им и ею непреодолимую преграду. «Я не могу просить ее быть моею женой потому только, что она не может быть женою того, кого она хотела», – говорил он сам себе. Мысль об этом делала его холодным и враждебным к ней. «Я не в силах буду говорить с нею без чувства упрека, смотреть на нее без злобы, и она только еще больше возненавидит меня, как и должно быть. И потом, как я могу теперь, после того, что мне сказала Дарья Александровна, ехать к ним? Разве я могу не показать, что я знаю то, что она сказала мне? И я приеду с великодушием – простить, помиловать ее. Я пред нею в роли прощающего и удостоивающего ее своей любви!.. Зачем мне Дарья Александровна сказала это? Случайно бы я мог увидать ее, и тогда все бы сделалось само собой, но теперь это невозможно, невозможно!»
Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамское седло для Кити. «Мне сказали, что у вас есть седло, – писала она ему. – Надеюсь, что вы привезете его сами».
Этого уже он не мог переносить. Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру! Он написал десять записок и все разорвал и послал седло без всякого ответа. Написать, что он приедет, – нельзя, потому что он не может приехать; написать, что он не может приехать, потому что не может или уезжает, – это еще хуже. Он послал седло без ответа и с сознанием, что он сделал что-то стыдное, на другой день, передав все опостылевшее хозяйство приказчику, уехал в дальний уезд к приятелю своему Свияжскому, около которого были прекрасные дупелиные болота и который недавно писал ему, прося исполнить давнишнее намерение побывать у него. Дупелиные болота в Суровском уезде давно соблазняли Левина, но он за хозяйственными делами все откладывал эту поездку. Теперь же он рад был уехать и от соседства Щербацких и, главное, от хозяйства, именно на охоту, которая во всех горестях служила ему лучшим утешением.
XXV
В Суровский уезд не было ни железной, ни почтовой дороги, и Левин ехал на своих в тарантасе.
На половине дороги он остановился кормить у богатого мужика. Лысый свежий старик, с широкою рыжею бородой, седою у щек, отворил ворота, прижавшись к верее, чтобы пропустить тройку. Указав кучеру место под навесом на большом, чистом и прибранном новом дворе с обгоревшими сохами, старик попросил Левина в горницу. Чисто одетая молодайка, в калошках на босу ногу, согнувшись, подтирала пол в новых сенях. Она испугалась вбежавшей за Левиным собаки и вскрикнула, но тотчас же засмеялась своему испугу, узнав, что собака не тронет. Показав Левину засученною рукой на дверь в горницу, она спрятала, опять согнувшись, свое красивое лицо и продолжала мыть.
– Самовар, что ли? – спросила она.
– Да, пожалуйста.
Горница была большая, с голландскою печью и перегородкой. Под образами стоял раскрашенный узорами стол, лавка и два стула. У входа был шкафчик с посудой. Ставни были закрыты, мух было мало, и так чисто, что Левин позаботился о том, чтобы Ласка, бежавшая дорогой и купавшаяся в лужах, не натоптала пол, и указал ей место в углу у двери. Оглядев горницу, Левин вышел на задний двор. Благовидная молодайка в калошках, качая пустыми ведрами на коромысле, сбежала впереди его за водой к колодцу.
– Живо у меня! – весело крикнул на нее старик и подошел к Левину. – Что, сударь, к Николаю Ивановичу Свияжскому едете? Тоже к нам заезжают, – словоохотно начал он, облокачиваясь на перила крыльца.
В середине рассказа старика об его знакомстве с Свияжским ворота опять заскрипели, и на двор въехали работники с поля с сохами и боронами. Запряженные в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. Работники, очевидно, были семейные: двое были молодые, в ситцевых рубахах и картузах, другие двое были наемные, в посконных рубахах, – один старик, другой молодой малый. Отойдя от крыльца, старик подошел к лошадям и принялся распрягать.
– Что это пахали? – спросил Левин.
– Картошку пропахивали. Тоже землицу держим. Ты, Федот, мерина-то не пускай, а к колоде поставь, иную запряжем.
– Что, батюшка, сошники-то я приказывал взять, принес, что ли? – спросил большой ростом, здоровенный малый, очевидно сын старика.
– Во… в санях, – отвечал старик, сматывая кругом снятые вожжи и бросая их наземь. – Наладь, поколе пообедают.
Благовидная молодайка с полными, оттягивавшими ей плечи ведрами прошла в сени. Появились откуда-то еще бабы – молодые красивые, средние и старые некрасивые, с детьми и без детей.
Самовар загудел в трубе; рабочие и семейные, убравшись с лошадьми, пошли обедать. Левин, достав из коляски свою провизию, пригласил с собою старика напиться чаю.
– Да что, уже пили нынче, – сказал старик, очевидно с удовольствием принимая это предложение. – Нешто для компании.
За чаем Левин узнал всю историю старикова хозяйства. Старик снял десять лет тому назад у помещицы сто двадцать десятин, а в прошлом году купил их и снимал еще триста у соседнего помещика. Малую часть земли, самую плохую, он раздавал внаймы, а десятин сорок в поле пахал сам своею семьей и двумя наемными рабочими. Старик жаловался, что дело шло плохо. Но Левин понимал, что он жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по ста пяти рублей землю, не женил бы трех сыновей и племянника, не построился бы два раза после пожаров, и все лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянником, невестками, лошадьми, коровами и в особенности тем, что держится все это хозяйство. Из разговора со стариком Левин узнал, что он был и не прочь от нововведений. Он сеял много картофелю, и картофель его, который Левин видел, подъезжая, уже отцветал и завязывался, тогда как у Левина только зацветал. Он пахал под картофель плугою, как он называл плуг, взятый у помещика. Он сеял пшеницу. Маленькая подробность о том, что, пропалывая рожь, старик прополонною рожью кормил лошадей, особенно поразила Левина. Сколько раз Левин, видя этот пропадающий прекрасный корм, хотел собирать его; но всегда это оказывалось невозможно. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом.
– Чего же бабенкам делать? Вынесут кучки на дорогу, а телега подъедет.
– А вот у нас, помещиков, все плохо идет с работниками, – сказал Левин, подавая ему стакан с чаем.
– Благодарим, – отвечал старик, взял стакан, но отказался от сахара, указав на оставшийся обгрызенный им комок. – Где же с работниками вести дело? – сказал он. – Разор один. Вот хоть бы Свияжсков. Мы знаем, какая земля, мак, и тоже не больно хвалятся урожаем. Все недосмотр!
– Да ведь вот ты же хозяйничаешь с работниками?
– Наше дело мужицкое. Мы до всего сами. Плох – и вон; и своими управимся.
– Батюшка, Финоген велел дегтю достать, – сказала вошедшая баба в калошках.
– Так-то, сударь! – сказал старик, вставая, перекрестился продолжительно, поблагодарил Левина и вышел.
Когда Левин вошел в черную избу, чтобы вызвать своего кучера, он увидал всю семью мужчин за столом. Бабы прислуживали стоя. Молодой здоровенный сын, с полным ртом каши, что-то рассказывал смешное, и все хохотали, и в особенности весело баба в калошках, подливавшая щи в чашку.
Очень может быть, что благовидное лицо бабы в калошках много содействовало тому впечатлению благоустройства, которое произвел на Левина этот крестьянский дом, но впечатление это было так сильно, что Левин никак не мог отделаться от него. И всю дорогу от старика до Свияжского нет-нет и опять вспоминал об этом хозяйстве, как будто что-то в этом впечатлении требовало его особенного внимания.
XXVI
Свияжский был предводитель в своем уезде. Он был пятью годами старше Левина и давно женат. В доме его жила молодая его свояченица, очень симпатичная Левину девушка. И Левин знал, что Свияжский и его жена очень желали выдать за него эту девушку. Он знал это несомненно, как знают это всегда молодые люди, так называемые женихи, хотя никогда никому не решился бы сказать этого, и знал тоже и то, что, несмотря на то, что он хотел жениться, несмотря на то, что по всем данным эта весьма привлекательная девушка должна была быть прекрасною женой, он так же мало мог жениться на ней, даже если б он и не был влюблен в Кити Щербацкую, как он не мог улететь на небо. И это знание отравляло ему то удовольствие, которое он надеялся иметь от поездки к Свияжскому.
Получив письмо Свияжского с приглашением на охоту, Левин тотчас же подумал об этом, но, несмотря на это, решил, что такие виды на него Свияжского есть только его ни на чем не основанное предположение, и потому он все-таки поедет. Кроме того, в глубине души ему хотелось испытать себя, примериться опять к этой девушке. Домашняя же жизнь Свияжских была в высшей степени приятна, и сам Свияжский, самый лучший тип земского деятеля, какой только знал Левин, был для Левина всегда чрезвычайно интересен.
Свияжский был один из тех, всегда удивительных для Левина людей, рассуждение которых, очень последовательное, хотя и никогда не самостоятельное, идет само по себе, а жизнь, чрезвычайно определенная и твердая в своем направлении, идет сама по себе, совершенно независимо и почти всегда вразрез рассуждениям. Свияжский был человек чрезвычайно либеральный. Он презирал дворянство и считал большинство дворян тайными, от робости только не выражавшимися, крепостниками. Он считал Россию погибшею страной, вроде Турции, и правительство России столь дурным, что никогда не позволял себе даже серьезно критиковать действия правительства, и вместе с тем служил и был образцовым дворянским предводителем и в дорогу всегда надевал с кокардой и с красным околышем фуражку. Он полагал, что жизнь человеческая возможна только за границей, куда он и уезжал жить при первой возможности, а вместе с тем вел в России очень сложное и усовершенствованное хозяйство и с чрезвычайным интересом следил за всем и знал все, что делалось в России. Он считал русского мужика стоящим по развитию на переходной ступени от обезьяны к человеку, а вместе с тем на земских выборах охотнее всех пожимал руку мужикам и выслушивал их мнения. Он не верил ни в чох, ни в смерть, но был очень озабочен вопросом улучшения быта духовенства и сокращения приходов, причем особенно хлопотал, чтобы церковь осталась в его селе.
В женском вопросе он был на стороне крайних сторонников полной свободы женщин и в особенности их права на труд, но жил с женою так, что все любовались их дружною бездетною семейною жизнью, и устроил жизнь своей жены так, что она ничего не делала и не могла делать, кроме общей с мужем заботы, как получше и повеселее провести время.
Если бы Левин не имел свойства объяснять себе людей с самой хорошей стороны, характер Свияжского не представлял бы для него никакого затруднения и вопроса; он бы сказал себе: дурак или дрянь, и все бы было ясно. Но он не мог сказать дурак, потому что Свияжский был несомненно не только очень умный, но очень образованный и необыкновенно просто носящий свое образование человек. Не было предмета, которого бы он не знал; но он показывал свое знание, только когда бывал вынуждаем к этому. Еще меньше мог Левин сказать, что он был дрянь, потому что Свияжский был несомненно честный, добрый, умный человек, который весело, оживленно, постоянно делал дело, высоко ценимое всеми его окружающими, и уже наверное никогда сознательно не делал и не мог сделать ничего дурного.
Левин старался понять и не понимал и всегда, как на живую загадку, смотрел на него и на его жизнь.
Они были дружны с Левиным, и поэтому Левин позволял себе допытывать Свияжского, добираться до самой основы его взгляда на жизнь; но всегда это было тщетно. Каждый раз, как Левин пытался проникнуть дальше открытых для всех дверей приемных комнат ума Свияжского, он замечал, что Свияжский слегка смущался; чуть заметный испуг выражался в его взгляде, как будто он боялся, что Левин поймет его, и он давал добродушный и веселый отпор.
Теперь, после своего разочарования в хозяйстве, Левину особенно приятно было побывать у Свияжского. Не говоря о том, что на него просто весело действовал вид этих счастливых, довольных собою и всеми голубков, их благоустроенного гнезда, ему хотелось теперь, чувствуя себя столь недовольным своею жизнью, добраться в Свияжском до того секрета, который давал ему такую ясность, определенность и веселость в жизни. Кроме того, Левин знал, что он увидит у Свияжского помещиков-соседей, и ему теперь особенно интересно было поговорить, послушать о хозяйстве те самые разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем-то очень низким, но которые теперь для Левина казались одними важными. «Это, может быть, не важно было при крепостном праве или не важно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России», – думал Левин.
Охота оказалась хуже, чем ожидал Левин. Болото высохло, и дупелей совсем не было. Он проходил целый день и принес только три штуки, но зато принес, как и всегда с охоты, отличный аппетит, отличное расположение духа и то возбужденное умственное состояние, которым всегда сопровождалось у него сильное физическое движение. И на охоте, в то время когда он, казалось, ни о чем не думал, нет-нет и опять ему вспоминался старик со своею семьей, и впечатление это как будто требовало к себе не только внимания, но и разрешения чего-то с ним связанного.
Вечером, за чаем, в присутствии двух помещиков, приехавших по каким-то делам опеки, завязался тот самый интересный разговор, какого и ожидал Левин.
Левин сидел подле хозяйки у чайного стола и должен был вести разговор с нею и свояченицей, сидевшею против него. Хозяйка была круглолицая, белокурая и невысокая женщина, вся сияющая ямочками и улыбками. Левин старался чрез нее выпытать решение той для него важной загадки, которую представлял ее муж; но он не имел полной свободы мыслей, потому что ему было мучительно неловко. Мучительно неловко ему было оттого, что против него сидела свояченица в особенном, для него, ему казалось, надетом платье, с особенным в виде трапеции вырезом на белой груди; этот четвероугольный вырез, несмотря на то, что грудь была очень белая, или особенно потому, что она была очень белая, лишал Левина свободы мысли. Он воображал себе, вероятно ошибочно, что вырез этот сделан на его счет, и считал себя не вправе смотреть на него и старался не смотреть на него; но чувствовал, что он виноват уж за одно то, что вырез сделан. Левину казалось, что он кого-то обманывает, что ему следует объяснить что-то, но что объяснить этого никак нельзя, и потому он беспрестанно краснел, был беспокоен и неловок. Неловкость его сообщалась и хорошенькой свояченице. Но хозяйка, казалось, не замечала этого и нарочно втягивала ее в разговор.
– Вы говорите, – продолжала хозяйка начатый разговор, – что мужа не может интересовать все русское. Напротив, он весел бывает за границей, но никогда так, как здесь. Здесь он чувствует себя в своей сфере. Ему столько дела, и он имеет дар всем интересоваться. Ах, вы не были в нашей школе?
– Я видел… Это плющом обвитый домик?
– Да, это Настино дело, – сказала она, указывая на сестру.
– Вы сами учите? – спросил Левин, стараясь смотреть мимо выреза, но чувствуя, что, куда бы он ни смотрел в ту сторону, он будет видеть вырез.
– Да, я сама учила и учу, но у нас прекрасная учительница. И гимнастику мы ввели.
– Нет, я благодарю, я не хочу больше чаю, – сказал Левин и, чувствуя, что он делает неучтивость, но не в силах более продолжать этот разговор, краснея, встал. – Я слышу очень интересный разговор, – прибавил он и подошел к другому концу стола, у которого сидел хозяин с двумя помещиками. Свияжский сидел боком к столу, облокоченною рукой поворачивая чашку, другою собирая в кулак свою бороду и поднося ее к носу и опять выпуская, как бы нюхая. Он блестящими черными глазами смотрел прямо на горячившегося помещика с седыми усами и, видимо, находил забаву в его речах. Помещик жаловался на народ. Левину ясно было, что Свияжский знает такой ответ на жалобы помещика, который сразу уничтожит весь смысл его речи, но что по своему положению он не может сказать этого ответа и слушает не без удовольствия комическую речь помещика.
Помещик с седыми усами был, очевидно, закоренелый крепостник и деревенский старожил, страстный сельский хозяин. Признаки эти Левин видел и в одежде – старомодном, потертом сюртуке, видимо непривычном помещику, и в его умных, нахмуренных глазах, и в складной русской речи, и в усвоенном, очевидно, долгим опытом повелительном тоне, и в решительных движениях больших, красивых, загорелых рук с одним старым обручальным кольцом на безыменке.
XXVII
– Только если бы не жалко бросить, что заведено… трудов положено много… махнул бы на все рукой, продал бы, поехал, как Николай Иваныч… Елену слушать, – сказал помещик с осветившею его умное старое лицо приятною улыбкой.
– Да вот не бросаете же, – сказал Николай Иванович Свияжский, – стало быть, расчеты есть.
– Расчет один, что дома живу, непокупное, ненанятое. Да еще все надеешься, что образумится народ. А то, верите ли, – это пьянство, распутство! Все переделились, ни лошаденки, ни коровенки. С голоду дохнет, а возьмите его в работники наймите – он вам норовит напортить, да еще к мировому судье.
– Зато и вы пожалуетесь мировому судье, – сказал Свияжский.
– Я пожалуюсь? Да ни за что в свете! Разговоры такие пойдут, что и не рад жалобе! Вот на заводе – взяли задатки, ушли. Что ж мировой судья? Оправдал, только и держится все волостным судом да старшиной. Этот отпорет его по-старинному. А не будь этого – бросай все! Беги на край света!
Очевидно, помещик дразнил Свияжского, но Свияжский не только не сердился, но, видимо, забавлялся этим.
– Да вот ведь ведем же мы свои хозяйства без этих мер, – сказал он, улыбаясь, – я, Левин, они.
Он указал на другого помещика.
– Да, у Михаила Петровича идет, а спросите-ка как? Это разве рациональное хозяйство? – сказал помещик, очевидно щеголяя словом «рациональное».
– У меня хозяйство простое, – сказал Михаил Петрович. – Благодарю Бога. Мое хозяйство все, чтобы денежки к осенним податям были готовы. Приходят мужички: батюшка, отец, вызволь! Ну, свои всё соседи мужики, жалко. Ну, дашь на первую треть, только скажешь: помнить, ребята, я вам помог, и вы помогите, когда нужда – посев ли овсяный, уборка сена, жнитво, – ну и выговоришь, по скольку с тягла. Тоже есть бессовестные и из них, это правда.
Левин, зная давно эти патриархальные приемы, переглянулся с Свияжским и перебил Михаила Петровича, обращаясь опять к помещику с седыми усами.
– Так вы как же полагаете? – спросил он, – как же теперь надо вести хозяйство?
– Да так же и вести, как Михаил Петрович: или отдать исполу, или внаймы мужикам; это можно, но только этим самым уничтожается общее богатство государства. Где земля у меня при крепостном труде и хорошем хозяйстве приносила сам-девять, она исполу принесет сам-третей. Погубила Россию эмансипация!
Свияжский поглядел улыбающимися глазами на Левина и даже сделал ему чуть заметный насмешливый знак; но Левин не находил слов помещика смешными, – он понимал их больше, чем он понимал Свияжского. Многое же из того, что дальше говорил помещик, доказывая, почему Россия погублена эмансипацией, показалось ему даже очень верным, для него новым и неопровержимым. Помещик, очевидно, говорил свою собственную мысль, что так редко бывает, и мысль, к которой он приведен был не желанием занять чем-нибудь праздный ум, а мысль, которая выросла из условий его жизни, которую он высидел в своем деревенском уединении и со всех сторон обдумал.
– Дело, изволите видеть, в том, что всякий прогресс совершается только властью, – говорил он, очевидно желая показать, что он не чужд образованию. – Возьмите реформы Петра, Екатерины, Александра. Возьмите европейскую историю. Тем более прогресс в земледельческом быту. Хоть картофель – и тот вводился у нас силой. Ведь сохой тоже не всегда пахали. Тоже ввели ее, может быть, при уделах, но, наверно, ввели силою. Теперь, в наше время, мы, помещики, при крепостном праве вели свое хозяйство с усовершенствованиями; и сушилки, и веялки, и возка навоза, и все орудия – всё мы вводили своею властью, и мужики сначала противились, а потом подражали нам. Теперь-с, при уничтожении крепостного права, у нас отняли власть, и хозяйство наше, то, где оно поднято на высокий уровень, должно опуститься к самому дикому, первобытному состоянию. Так я понимаю.
– Да почему же? Если оно рационально, то вы можете наймом вести его, – сказал Свияжский.
– Власти нет-с. Кем я его буду вести? позвольте спросить.
«Вот она – рабочая сила, главный элемент хозяйства», – подумал Левин.
– Рабочими.
– Рабочие не хотят работать хорошо и работать хорошими орудиями. Рабочий наш только одно знает – напиться, как свинья, пьяный и испортит все, что вы ему дадите. Лошадей опоит, сбрую хорошую оборвет, колесо шинованное сменит, пропьет, в молотилку шкворень пустит, чтобы ее сломать. Ему тошно видеть все, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйства. Земли заброшены, заросли полынями или розданы мужикам, и где производили миллион, производят сотни тысяч четвертей; общее богатство уменьшилось. Если бы сделали то же, да с расчетом…
И он начал развивать свой план освобождения, при котором были бы устранены эти неудобства.
Левина не интересовало это, но, когда он кончил, Левин вернулся к первому его положению и сказал, обращаясь к Свияжскому и стараясь вызвать его на высказывание своего серьезного мнения:
– То, что уровень хозяйства спускается и что при наших отношениях к рабочим нет возможности вести выгодно рациональное хозяйство, это совершенно справедливо, – сказал он.
– Я не нахожу, – уже серьезно возразил Свияжский, – я только вижу то, что мы не умеем вести хозяйство и что, напротив, то хозяйство, которое мы вели при крепостном праве, не то что слишком высоко, а слишком низко. У нас нет ни машин, ни рабочего скота хорошего, ни управления настоящего, ни считать мы не умеем. Спросите у хозяина, – он не знает, что ему выгодно, что невыгодно.
– Итальянская бухгалтерия, – сказал иронически помещик. – Там как ни считай, как вам всё перепортят, барыша не будет.
– Зачем же перепортят? Дрянную молотилку, российский топчачок[124] ваш, сломают, а мою паровую не сломают. Лошаденку расейскую, как это? тасканской породы, что за хвост таскать, вам испортят, а заведете першеронов или хоть битюков, их не испортят. И так все. Нам выше надо поднимать хозяйство.
– Да было бы из чего, Николай Иваныч! Вам хорошо, а я сына в университете содержи, малых в гимназии воспитывай, – так мне першеронов не купить.
– А на это банки.
– Чтобы последнее с молотка продали? Нет, благодарю!
– Я не согласен, что нужно и можно поднять еще выше уровень хозяйства, – сказал Левин. – Я занимаюсь этим, и у меня есть средства, а я ничего не мог сделать. Банки не знаю кому полезны. Я по крайней мере на что ни затрачивал деньги в хозяйстве, все с убытком: скотина – убыток, машина – убыток.
– Вот это верно, – засмеявшись даже от удовольствия, подтвердил помещик с седыми усами.
– И я не один, – продолжал Левин, – я сошлюсь на всех хозяев, ведущих рационально дело; все, за редкими исключениями, ведут дело в убыток. Ну, вы скажите, что ваше хозяйство – выгодно? – сказал Левин, и тотчас же во взгляде Свияжского Левин заметил то мимолетное выражение испуга, которое он замечал, когда хотел проникнуть далее приемных комнат ума Свияжского.
Кроме того, этот вопрос со стороны Левина был не совсем добросовестен. Хозяйка за чаем только что говорила ему, что они нынче летом приглашали из Москвы немца, знатока бухгалтерии, который за пятьсот рублей вознаграждения учел их хозяйство и нашел, что оно приносит убытка три тысячи с чем-то рублей. Она не помнила именно сколько, но, кажется, немец высчитал до четверти копейки.
Помещик при упоминании о выгодах хозяйства Свияжского улыбнулся, очевидно, зная, какой мог быть барыш у соседа и предводителя.
– Может быть, невыгодно, – отвечал Свияжский. – Это только доказывает, или что я плохой хозяин, или что я затрачиваю капитал на увеличение ренты.
– Ах, рента! – с ужасом воскликнул Левин. – Может быть, есть рента в Европе, где земля стала лучше от положенного на нее труда, но у нас вся земля становится хуже от положенного труда, то есть что ее выпашут, – стало быть, нет ренты.

