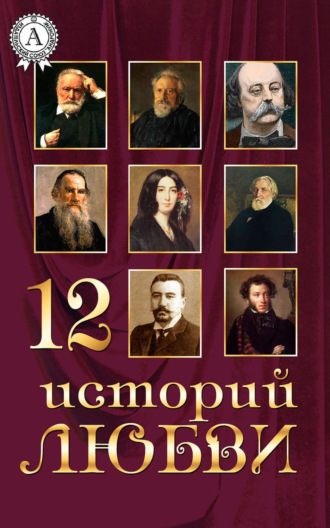
Полная версия
Евгений Онегин 6
Оба они молчали. Молодая девушка по временам кидала на него нежные и радостные взоры, и один и тот же луч весеннего солнца играл волосами их обоих.
* * *– Феб, – вдруг проговорила Флер-де-Лис шепотом, – через три месяца наша свадьба. Поклянитесь мне, что вы никогда не любили другой женщины, кроме меня!
– Клянусь вам в том, ангел мой! – ответил Феб, и страстный взор его явился на подмогу для того, чтобы убедить Флер-де-Лис в истине его слов. Быть может, в эту минуту он и сам себе верил.
Добрая мамаша, восхищенная видом обоих, так нежно воркующих голубков, вышла из комнаты, чтобы сделать некоторые распоряжения по хозяйству. Феб заметил это, и одиночество, в котором они очутились, придало столько смелости предприимчивому капитану, что ему в голову пришли довольно странные мысли. Флер-де-Лис любила его, он был ее жених, она была одна с ним, она ему нравилась, он питал к ней не то, чтобы любовь, а известное вожделение и к тому же что за беда в том, если съесть свой же хлеб на корню! Не могу сказать наверное, действительно ли все эти мысли приходили Фебу в голову, но верно то, что выражение его взора вдруг испугало Флер-де-Лис. Она оглянулась и увидела, что мать ее ушла из комнаты.
– О, Боже мой! – воскликнула она, покраснев и встревоженным голосом, – как мне жарко!
– Действительно, – ответил Феб, – уж скоро полдень. Солнце ужасно печет. Нужно опустить шторы.
– Нет, нет! – воскликнула бедняжка, – мне, напротив, нужен воздух!
И подобно лани, за которой гонится свора собак, она встала, подбежала к окну, распахнула его и вскочила на балкон. Феб последовал за нею с недовольным видом.
Площадка перед соборной папертью, на которую, как уже известно, выходил балкон, представляла в эту минуту странное и мрачное зрелище, которое совершенно изменило свойство испуга робкой Флер-де-Лис.
Громадная толпа наполняла всю площадь и даже соседние улицы. Невысокая ограда, в половину человеческого роста, не в состоянии была бы сдержать толпу, если бы вокруг нее не стоял еще ряд городских сержантов и алебардщиков. Благодаря этой живой изгороди, небольшая площадка перед папертью церкви была свободна. Вход в это пространство охраняли солдаты стражи епископа. Большие церковные двери были заперты, составляя яркий контраст с бесчисленными окнами, выходившими на площадь, которые, напротив, были открыты все, начиная с подвальных этажей и до чердаков, и в которых виднелись тысячи человеческих голов.
Вся эта толпа имела вид очень непривлекательный. Зрелище, которого она дожидалась, принадлежало, очевидно, к числу тех, которые привлекают к себе подонки общества. Противно было прислушаться к восклицаниям, раздававшимся из среды этой оборванной и растрепанной толпы. Здесь слышалось больше смеха, чем слов, видно было больше женщин, чем мужчин.
– Эй! Магие Балифр! Что, ее здесь же и повесят?
– Дурак! Здесь она только должна покаяться, одетая в одну рубашку, просить прощения у Господа Бога. Это всегда делается в полдень. А если ты хочешь видеть виселицу, ступай на Гревскую площадь.
– Я и пойду немного погодя.
– …А скажите-ка, госпожа Буканбри, правда ли, что она отказалась от духовника?
– Так, по крайней мере, говорят, госпожа Бешэнь.
– Ишь, ведь какая языческая рожа!
– …Это, видите ли, сударь, так водится. Судья должен выдать осужденного преступника для совершения казни, если это мирянин, парижскому бургомистру, а если это духовное лицо – уполномоченному епископа.
– Очень вам благодарен, милостивый государь.
– О, Боже мой, – говорила Флер-де-Лис: – бедное создание!
И, произнеся эти слова, она печальным взором окинула толпу. Капитан, гораздо более занятый в эту минуту ею, чем этим сбродом зевак, воспользовался этим случаем, чтобы обнять ее за талию. Она обернулась, взглянула на него с улыбкой и сказала умоляющим голосом:
– Ради Бога, оставьте меня, Феб! Матушка может каждую минуту войти и увидать вашу руку.
В это время часы на соборной колокольне медленно пробили двенадцать ударов. Ропот удовольствия пробежал по толпе. Едва затих гул последнего, двенадцатого, удара, как все головы заволновались, как морская поверхность, на которую набежал шквал, и с площади, из окон, с крыш раздались громкие, как бы радостные восклицания:
– «Вот она!»
Флер-де-Лис закрыла лицо свое руками, чтобы не видеть того, что происходит на площади.
– Не желаете ли вы вернуться в комнату, красавица моя? – спросил ее Феб.
– Нет, нет! – ответила она, и любопытство заставило ее снова открыть глаза, которые она зажмурила от страха.
В это самое время из улицы Сен-Пьерр выезжала на площадь телега, запряженная сильною нормандскою ломовою лошадью и окруженная всадниками в фиолетовых камзолах, с нашитыми на них белыми крестами. Сержанты очищали ей путь сквозь толпу, отвешивая направо и налево удары своими булавами. Рядом с телегой ехало верхом несколько судебных приставов и полицейских чиновников, которых не трудно было узнать по их черным одеждам и по той неловкой манере, с которою они сидели на конях. Впереди их ехал Жак Шармолю.
На позорной колеснице сидела молодая девушка со связанными назад руками; подле нее не видно было священника. Одета она была в одну только рубашку; ее длинные, черные волосы (тогда существовал обычай остригать у осужденных на смерть волосы только на эшафоте) падали в беспорядке на ее обнаженные наполовину грудь и плечи.
Сквозь густые, роскошные волосы ее, более блестящие, чем вороново крыло, можно было разглядеть обмотанную вокруг ее шеи веревку, которая натирала ее хрупкие ключицы и обвивалась вокруг шеи бедной девушки, как земляной червь вокруг розы. Под этой веревкой можно было разглядеть блестевшую на солнце, маленькую ладанку, вышитую бисером, которую, вероятно, оставили при ней в виду обычая – не отказывать осужденным на смерть в их последней просьбе. Зрители, смотревшие в окно, могли разглядеть на дне телеги голые ноги ее, которые она старалась скрыть под сиденьем, так как невинная женщина остается целомудренной до последней минуты. У ног ее лежала маленькая козочка с связанными ногами. Осужденная поддерживала зубами сорочку свою, спускавшуюся с плеч. Ясно было видно, что даже в эту страшную минуту она страдала при мысли о том, что ее выставляли в таком виде, полунагою, на всеобщий позор. И к чему ей было теперь это ее целомудрие!
– О, Господи Иисусе! – воскликнула Флер-де-Лис, обращаясь к капитану, – посмотрите-ка, милый кузен! Это та противная цыганка с козою!
И с этими словами она обернулась к Фебу. Он был чрезвычайно бледен и не спускал глаз с телеги.
– Какая цыганка? Какая коза? – пробормотал он.
– Как! разве вы не помните? – продолжала Флер-де-Лис.
– Я не понимаю, что вы этим хотите сказать, – перебил ее Феб.
И он сделал было шаг назад, чтобы вернуться в комнату. Но Флер-ле-Лис, в которой эта самая цыганка когда-то возбудила такую сильную ревность, взглянула на него проницательным и подозрительным взором. Ревность ее снова проснулась. Она в эту минуту смутно припомнила, что слышала о каком-то офицере, замешанном в процессе этой колдуньи.
– Что с вами? – спросила она Феба. – Можно было бы подумать, что вид этой женщины смутил вас.
– Меня? Нисколько! С чего вы это взяли? – ответил Феб, стараясь улыбнуться.
– В таком случае останьтесь, – сказала она повелительным голосом, – и досмотрим до конца.
Несчастному капитану приходилось повиноваться. Его, впрочем, несколько успокаивало то, что осужденная не сводила глаз со дна своей телеги. Это была Эсмеральда, в том не оставалось ни малейшего сомнения. Спустившись даже до этой последней ступени позора и несчастия, она все еще была поразительно хороша; ее большие, черные глаза казались еще большими вследствие того, что щеки ее похудели, ее бледное лицо было чисто и прекрасно. Она походила на прежнюю Эсмеральду так же, как мадонна Мачазио походит на мадонну Рафаэля: она была более слабая, более худая, более деликатная.
Впрочем, помимо чувства стыдливости, в ней, казалось, притуплены были все другие чувства, и она была совершенно разбита горем и отчаянием. Тело ее при каждом толчке мостовой качалось в разные стороны, как какой-то неодушевленный предмет. Взор ее был тускл и бессмыслен. На глазах ее еще можно было разглядеть слезы, но слезы неподвижные, как бы замерзшие.
Тем временем печальная процессия проехала через толпу, среди радостных кликов и любопытных взоров зевак. Впрочем, в качестве правдивого историка, автор должен заметить, что, видя ее столь красивою и несчастною, многие, и при том не из самых мягкосердых, были тронуты.
Наконец, телега въехала на площадку и остановилась перед главным входом. Конвой выстроился по обеим сторонам, и, среди водворившегося торжественного молчания, обе створы главной двери как бы сами собой распахнулись, заскрипев на своих петлях. Взорам зрителей представилась во всю длину темная, обитая черным сукном, церковь, едва освещаемая несколькими восковыми свечами, мерцавшими в отдалении на главном алтаре, и точно разевавшая свою темную пасть на залитую солнечным светом площадь. В самой глубине, в тени, бросаемой хорами, виднелся громадный, серебряный крест, ярко выделявшийся на черном сукне, спускавшемся во всю высоту церкви от свода до полу. Вся середина церкви была пуста, и только на хорах виднелось несколько голов церковнослужителей и певчих. В ту минуту, когда двери церкви распахнулись, из нее донеслись на площадь до слуха осужденной монотонные звуки скорбных псалмов.
«Не устрашусь мириад окружающего меня народа.Восстань, о Господи! Спаси мя, о Господи!Спаси меня, о Господи, хотя бы воды угрожали залить и самую душу мою!Я создан из земли, и в землю же превратитьсяя должен».В это время другой голос, уже не на хорах, а перед главным алтарем, возгласил:
«Кто услышит слово Мое и уверует в пославшего Мя, удостоится вечной жизни и судим не будет, а перейдет от смерти к жизни».
Народ благоговейно слушал. Несчастная осужденная, вся растерянная, казалось, и глазами, и мыслями ушла в темную внутренность церкви. ее бледные губы шевелились, как бы творя молитву; но когда помощник палача подошел к ней, чтобы помочь ей сойти с телеги, он услышал, что она шепотом повторяла одно только слово: «Феб».
Ей развязали руки и ноги и заставили ее сойти с телеги вместе с козой ее, которой также развязали ноги, и которая заблеяла от радости, почувствовав себя на свободе; затем ее заставили пройти босиком по булыжной мостовой до нижней ступеньки главной паперти. Веревка, обмотанная вокруг ее шеи, волочилась за нею, точно змея, ползшая по ее пятам.
В это время пение в церкви замолкло, и видно было, как в глубине ее, в потемках, зашевелились большой, позолоченный крест и многочисленные восковые свечи. Затем раздался стук об пол алебард привратников, и несколько мгновений спустя взорам осужденной и толпы предстала длинная процессия священников в ризах и диаконов в стихарях, которая, распевая псалмы, медленными шагами приближалась к ней. Но взор осужденной остановился только на той духовной особе, которая шла впереди всех, непосредственно за причетником, несшим крест.
– О! – пробормотала она про себя, содрогаясь: – опять он! Опять этот поп!
Действительно, это был Клод Фролло. По правую и по левую руку от него шли: регент певчих с своей палочкой и его помощник. Архидиакон шел, откинув голову назад и напевая громким голосом:
«Я воззвал к Тебе из глубины ада, и Ты услышал голос мой;И Ты поверг меня в пучину морскую, и поток кружил меня!»В ту минуту, когда он появился в высоких стрельчатых дверях, облаченный в длинную ризу из серебряного глазета, с вышитым на груди большим черным крестом, он был так бледен, что его легко можно было принять за одну из тех высеченных из мрамора статуй епископов, изображенных коленопреклоненными на саркофагах хора, поднявшуюся с своего места для того, чтобы встретить у порога гроба то несчастное создание, которое должно было сейчас умереть.
Она, не менее бледная и не менее напоминавшая собою статую, едва заметила, как ей всунули в руку зажженную свечу из желтого воска. Она совсем не слышала крикливого голоса секретаря, читавшего формулу покаяния; когда ей сказали, чтобы она ответила: «Аминь», она машинально произнесла: «Аминь». Она почувствовала некоторое возвращение жизни и сил только тогда, когда увидела, что священник знаком велел страже отойти от нее и один приблизился к ней. Кровь кинулась ей в голову, и в этой душе, уже окоченелой и холодной, еще раз вспыхнул огонь негодования.
Архидиакон приблизился к ней медленными шагами. Даже и в эту торжественную минуту она могла подметить, как он бросил на ее полуобнаженное тело взор, полный страсти, ревности и похотливости. Затем он спросил ее громким голосом:
– Несчастная, просила ли ты Господа Бога простить тебе твои прегрешения вольные и невольные? – И затем он, нагнувшись к уху ее, прибавил (зрители думали, что он выслушает последнюю исповедь ее): – Хочешь ли ты быть моею? Я еще могу спасти тебя!
– Прочь от меня, дьявол, или я разоблачу тебя! – воскликнула она, пристально взглянув на него.
– Тебе все равно не поверят, – ответил он, злобно улыбаясь. – Ты добьешься только того, что к преступлению присоединишь еще скандал. Отвечай скорей, хочешь ли ты быть моею?
– Что ты сделал с моим Фебом?
– Он умер.
В эту самую минуту архидиакон машинально поднял голову и увидел на противоположном конце площади, на балконе дома госпожи Гонделорье, капитана Феба, стоявшего рядом с Флер-де-Лис. Он зашатался, провел по глазам рукою, еще раз взглянул, пробормотал какое-то проклятие, и все черты лица его злобно исказились.
– Ну, так умри же! – проговорил он сквозь зубы, – по крайней мере, ты никому не будешь принадлежать!
И затем, подняв руки над головой цыганки, он воскликнул погребальным голосом:
– И ныне отпущаеши, Господи, душу ее! Да смилуется над тобою Господь!
Этою ужасною формулою в те времена обыкновенно заключали подобные церемонии. Это был условленный сигнал между служителем церкви и палачом.
– Господи, помилуй! – возгласили остальные священники, остановившиеся в дверях, между тем, как народ преклонил колена.
– Господи, помилуй! – повторила толпа с неопределенным гулом, напоминавшим собою прибой морских волн.
– Аминь! – возгласил архидиакон – И он повернулся к осужденной спиною, голова его снова опустилась на грудь, он сложил руки на груди, возвратился к ожидавшим его в дверях остальным священникам; а минуту спустя он исчез вместе с крестом, свечами и хоругвями под темными сводами церкви, и звонкий голос его мало-по малу замирал, напевая следующий, полный отчаяния, стих: – «Надо мною разверзлись все хляби небесные и на меня полились потоки». – И в то же время прерывистый стук булав привратников о каменный пол церкви, раздаваясь среди колоннады церкви и отражаясь в сводах ее, напоминал собою бой часового молотка, возвещающего о том, что настал последний час для бедной осужденной.
Двери собора оставались раскрытыми, дозволяя толпе разглядывать внутренность пустой, обитой черным сукном, церкви, в которой не горело более ни одной свечи, не раздавалось ни единого звука.
Осужденная оставалась неподвижно на своем месте, ожидая, что с нею теперь станут делать. Один из приставов известил об этом Жака Шармолю, Занимавшегося во время всей этой сцены рассматриванием барельефов большой двери, изображавших, по уверению одних, – жертвоприношение Авраамово, а – по словам других – добывание философского камня, причем ангел представлял собою солнце, костер – огонь, а Авраам – философа.
Стоило некоторого труда оторвать его от этого занятия. Наконец, он обернулся и сделал какой-то знак, после которого два человека, одетые в желтые куртки, приблизились к цыганке, чтобы снова связать ей руки.
Несчастною овладело, быть может, какое-то раздирающее душу сожаление о жизни в ту минуту, когда она снова должна была взойти на зловещую колесницу, чтобы доехать па ней до последней станции своей жизни. Она подняла к небу свои раскрасневшиеся от слез, но в настоящую минуту сухие глаза, она взглянула на солнце, на серебристые облака, перерезанные кое-где синеватыми треугольниками и трапециями, затем она опустила их, взглянула вокруг себя – на площадь, на дома, на толпу. Вдруг, между тем, как один из одетых в желтую куртку людей скручивал ей локти, она испустила ужасный крик, крик радости. На том балконе, вон там, на углу площади, она только что увидела его, своего возлюбленного, своего Феба, это самое радостное видение ее жизни!
Значит, суд! я солгал! Значит, поп солгал! Это был, действительно, он, в том не было никакого сомнения! Он стоял там, здрав и невредим, красивее, чем когда либо, одетый в блестящий мундир свой, с пером на шляпе, со шпагой на левом бедре.
– Феб! – воскликнула она, – Феб мой! – Иона хотела было протянуть к нему свои руки, дрожавшие от любви и от восторга, но они оказались связанными.
Тогда она увидела, что капитан нахмурил брови, что стоявшая подле него и опиравшаяся о его плечо красивая молодая девушка взглянула на него гневными глазами и с презрительной улыбкой; она видела, что Феб произнес несколько слов, не достигнувших до ее слуха, и оба они поспешно скрылись в стеклянной двери балкона, которая тотчас же затворилась за ними.
– Феб! – воскликнула она в отчаянии, – неужели и ты этому веришь?
В это время в голове ее мелькнула ужасная мысль: она припомнила, что была осуждена между прочим и за убиение капитана Феба-де-Шатопера. До сих пор она все выносила. Но этот последний удар был слишком жесток, и она без чувств упала на мостовую.
– Ну, живее! – сказал Шармолю, – пора кончить! Отнесите ее в телегу!
Во время всей этой сцены никто не заметил в галерее, в которой были выстроены в ряд статуи 4 королей, как раз над стрелкой дверей, какого-то странного зрителя, который до сих пор смотрел на всю эту сцену с такою неподвижностью, с такой вытянутой шеей, с таким безобразным лицом, что, не будь он одет в какой-то шутовской наряд наполовину красный, наполовину фиолетовый, его можно было бы принять за одну из тех уродливых рож, через открытую пасть которых в течение шести сот лет вытекает вода из водосточных труб, идущих вдоль стен собора. Этот зритель видел все, что происходило, начиная с полудня, перед соборною дверью. С самого начала, пользуясь тем, что никто не обращает на него внимания, он крепко обмотал вокруг одной из колонок верхней галереи конец толстой, узловатой веревки, другой конец которой спускался до земли. Сделав это, он стал спокойно смотреть вокруг себя и посвистывать, когда мимо него пролетал дрозд.
Вдруг, в то самое время, когда помощники палача собирались исполнить приказание флегматика-Шармолю, он перескочил через перила галереи, обхватил веревку ногами, коленами и руками, спустился вдоль фасада здания, подобно тому, как капля дождя спускается по стеклу, подбежал к помощникам палача с проворством кошки, спрыгнувшей с крыши, оттолкнул их двумя увесистыми кулаками своими, схватил цыганку одной рукою, как ребенок схватывает куклу, и одним прыжком очутился под сводами церкви, поднимая молодую девушку над головою своею и крича страшным голосом:
– «Убежище!»
Все это произошло с быстротой молнии.
– Убежище! убежище! – повторила толпа, и раздались рукоплескания десятка тысяч рук; единственный глаз Квазимодо заблестел от радости и гордости.
Это сотрясение заставило осужденную прийти в себя. Она приподняла веки, взглянула на Квазимодо и затем немедленно же снова опустила их, как бы испугавшись своего спасителя.
И Шармолю, и палачи, и конвой стояли, как вкопанные. Действительно, в ограде собора личность осужденного была неприкосновенна; церковь считалась верным убежищем; закон человеческий утрачивал свою силу у порога ее.
Квазимодо остановился под главным входом. Его огромные ноги, опираясь на плиты каменного пола, напоминали собою скорее романские колонны, чем человеческие ноги. Его громадная косматая голова уходила в плечи, как головы львов, у которых длинная грива и очень короткая шея. Он держал дрожавшую молодую девушку на своих мозолистых руках, точно белую драпировку, но держал ее так осторожно, точно боялся сломать ее. Он как будто чувствовал, что это – нежная и хрупкая вещь, созданная не для таких грубых и топорных рук, как его руки. По временам казалось, что он боится не только грубо прикоснуться к ней, но даже дунуть на нее. И затем вдруг он опять крепко сжимал ее руками, прижимал ее к своей выпуклой груди, как свое добро, как свое сокровище, точно мать, прижимающая к груди своего ребенка. Его глаз циклопа, опущенный на нее, смотрел на нее с невыразимою нежностью, состраданием и скорбью, а затем вдруг поднимался, сверкая молнией. Женщины в толпе и смеялись, и плакали, мужчины топали ногами и рукоплескали от восторга. И действительно, в эту минуту Квазимодо был, действительно, красив, этот урод, этот подкидыш, этот предмет ужаса и отвращения! И он чувствовал себя не только сильным, но и красивым; он смело глядел в лицо этому обществу, которое оттолкнуло его и у которого он только что вырвал его жертву, этому правосудию, у которого он отнял его добычу, всем этим тиграм, тщетно скалившим зубы, всем этим судьям, стражам, палачам, всем этим королевским слугам, всей этой силе, которую он, презренный, только что сломил с помощью Божией!
И к тому же было нечто особенно трогательное в таком покровительстве, свалившемся, точно с неба, этого столь безобразного человека столь красивому, но несчастному существу, в этой осужденной на смерть, спасенной уродом Квазимодо. Здесь встретились и взаимно помогали друг другу крайности несчастия, – ниспосылаемого природой и причиняемого человеком.
Насладившись в течение нескольких минут своим торжеством, Квазимодо быстро углубился, вместе со своей ношей, в церковь. Толпа, подкупаемая всяким смелым поступком, искала его глазами в темном храме, сожалея о том, что он так поспешно скрылся от ее взоров. Вдруг его увидели, словно вынырнувшим, в галерее французских королей. Он пробежал по ней, как угорелый, высоко поднимая над своей головою девушку, вырванную им из рук смерти, и повторяя громким голосом: – «Убежище!» Толпа снова разразилась рукоплесканиями. Пробежав галерею, он снова скрылся внутри церкви. Минуту спустя он появился на верхней площадке; он бежал с тою же быстротой, по-прежнему держал цыганку в руках, и продолжал кричать: – «Убежище!» Новый взрыв рукоплесканий толпы. Наконец, он появился в третий раз на той площадке башни, на которой висел большой колокол. Казалось, он оттуда с гордостью показывал всему городу ту, которую он спас, и громкий голос, голос этот, которого сам он никогда не слыхал, и который другие слышали так редко, трижды прокричал с увлечением, как бы желая долететь до облаков поднебесных:
– «Убежище, убежище, убежище!»
– Браво! Браво! – кричал народ со своей стороны, и перекаты этого громкого возгласа донеслись на противоположный берег, до самой Гревской площади, и немало удивили собравшуюся там толпу и затворницу, не спускавшую глаз с виселицы и нетерпеливо поджидавшую прибытия осужденной.
Книга девятая
I. Горячка
Клода Фролло уже не было в церкви в то время, когда его приемный сын так решительно рассекал ту зловещую петлю, которою несчастный архидиакон опутал цыганку и в которой он сам запутался. Вернувшись в алтарь, он сорвал с себя стихарь, митру и епитрахиль, швырнул все это удивленному пономарю, вышел в потайную дверь церкви, приказал первому встречному лодочнику перевезти себя на левый берег Сены и углубился в извилистые улицы Университетского квартала, сам не зная, куда он идет, наталкиваясь на каждом шагу на группы мужчин и женщин, спешивших по направлению к мосту Сен-Мишель, в надежде поспеть еще вовремя к повешению цыганки. Он был бледен, растерян, смущен, точно ночная птица, преследуемая среди бела дня ватагой детей. Он не отдавал себе отчета в том, где он, о чем он думал, о чем он мечтал. Он шел, он бежал, наугад поворачивая то в ту, то в другую улицу, не разбирая, куда он направляется, и стараясь только уйти подальше от Гревской площади, которую, как он смутно сознавал, он оставил позади себя. Он прошел мимо холма св. Женевьевы и вышел, наконец, из города в ворота Сен-Виктор. Он продолжал бежать до тех пор, пока, оборачиваясь, мог видеть ограду и башни Университетского квартала и крайние дома предместий; но когда, наконец, неровность почвы скрыла от него весь этот ненавистный Париж, когда ему могло показаться, будто он удалился от него на целую сотню миль, когда он очутился в безлюдном месте, среди полей, – он остановился, и из его груди вырвался глубокий вздох.
Но, тем не менее, страшные мысли продолжали тесниться в его уме. Он заглянул в свою душу – и содрогнулся. Он вспомнил об этой несчастной молодой девушке, которая погубила его и которую он погубил. Он оглянулся назад на тот двойной извилистый путь, по которому судьба провела их до той точки, где пути эти встретились, и где судьба немилосердно разбила их жизнь одну и другую. Ему пришли на ум суета вечных обетов, тщетность целомудрия, науки, религии, добродетели; он усомнился даже в самом существовании Бога. Ему доставляли особое удовольствие эти дурные мысли, приходившие ему на ум, и по мере того, как он углублялся в них, он точно слышал внутри себя какой-то сатанинский хохот.

