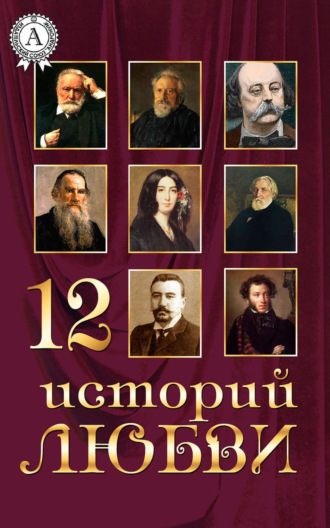
Полная версия
Евгений Онегин 6
– О! теперь я готова была бы умереть!
Феб нашел этот момент как нельзя более удобным для того, чтобы еще раз поцеловать ее, и поцелуй этот снова заставил несчастного архидиакона испытать в своей конуре самые адские муки.
Умереть! – воскликнул влюбленный капитан. – Что там такое говоришь, ангел мой! Напротив, тут-то и нужно жить, клянусь Юпитером! Умереть при самом начале такой приятной вещи! Что за странные шутки, черт побери! Дело совсем не в том. Слушай, милая моя Симиляр… Эсмеральда… Извини меня, пожалуйста, но у тебя такое басурманское имя, что я вечно перепутываю его. Это имя для меня точно какие-то дебри.
– Ах, Боже мой, – сказала бедная девушка, – а мне до сих пор имя мое нравилось именно вследствие своей странности. Но так как оно вам не нравится, то называйте меня просто хоть Марго.
– Ну, не плачь же из-за таких пустяков, милочка! Это просто имя, к которому нужно привыкнуть, вот и все. Раз я его выучу наизусть, дело пойдет уже само собою. – Так слушай же, милая моя Симиляр, я люблю тебя страстно, я люблю тебя так, что просто уму непостижимо. Одна барышня из себя выходит из-за этого…
– Кто это? – перебила его молодая девушка, в душе которой зашевелилось чувство ревности.
– К чему тебе знать имя ее? – ответил Феб, – Так любишь ли ты меня?
– Еще бы! – проговорила цыганка.
– Ну, и отлично! Я докажу тебе, насколько и я тебя люблю. Пусть меня поднимет на свои вилы этот языческий бог Нептун, если я не сделаю тебя самым счастливым созданием в мире! Мы наймем где-нибудь прехорошенькую комнату. Я проведу моих стрелков церемониальным маршем мимо твоих окон. Все они конные и хоть сейчас за пояс заткнут стрелков капитана Миньона. Одни из них выступают в строй с рогатинами, другие с луками, третьи с ручными самострелами. Я поведу тебя на большой смотр парижскому гарнизону, близ хлебных магазинов Рюльи. Это великолепное зрелище. Восемьдесят тысяч человек в строю! Тридцать тысяч человек в стальных латах, кольчугах и камзолах шестьдесят семь цеховых значков, знамена парламента, счетной камеры, казначейства, монетного двора, – словом, настоящая свита сатаны! Я поведу тебя смотреть на львов в королевском зверинце; это очень дикие звери, а все женщины это любят.
В течение нескольких последних минут молодая девушка замечталась, погруженная в самые радужные размышления, при звуках дорогого голоса, не вникая в смысл произносимых слов.
– О, как ты будешь счастлива! – продолжал капитан, тихонько расстегивая в то же время кушак цыганки.
– Что это вы делаете? – с живостью воскликнула она, пробужденная этим посягательством.
– Ничего… – ответил Феб. – Я говорил только, что тебе придется сбросить с себя этот уличный, балаганный наряд, когда ты будешь у меня.
– Когда я буду у тебя, Феб! – нежно проговорила молодая девушка и снова задумалась и замечталась.
Ободренный ее кротостью, капитан обнял ее талию. Она не оказывала ни малейшего сопротивления. Затем он стал потихоньку распускать шнурки ее корсажа и при этом до того сдвинул покрывавшую ее шею косынку, что чуть не задыхавшийся от волнения в своей конуре священник увидел вскоре показавшееся из-под косынки красивое плечико цыганки, круглое и розовое, как луна, поднимающаяся на горизонте из-за туч.
Молодая девушка все еще не оказывала Фебу ни малейшего сопротивления; она даже как будто ничего не замечала. Глаза предприимчивого капитана блестели.
– Феб, – сказала она, вдруг повернувшись к нему и взглянув на него с беспредельной любовью, – ознакомь меня с твоей религией.
С моей религией! – воскликнул капитан, расхохотавшись. – Ознакомить тебя с моей религией! Да на что она тебе, моя религия, скажи на милость!
– А на то, чтобы я могла выйти за тебя замуж, – наивно ответила она.
Лицо капитана приняло выражение, в котором сказывались одновременно и удивление, и презрение, и беззаботность, и плотские вожделения.
– Вот еще что ты выдумала! – проговорил он, – да с какой стати нам жениться!
Цыганка побледнела и печально опустила голову на грудь.
– Моя милая, – нежно продолжал Феб: – что это за ости! И что за невидаль – свадьба? Разве люди не могут любить друг друга, не будучи повенчаны попом?
Произнося слова эти самым нежным и вкрадчивым голосом, он все ближе и ближе придвигался к цыганке. Руки его снова обхватили ее гибкую и тонкую талию, глаза его разгорались все более и более ярким блеском, и все предвещало, что капитан Феб, действительно, приближался к одному из тех моментов, в которые сам Юпитер наделал столько глупостей, что добряк. Гомер нашелся вынужденным призвать к нему на помощь облако.
Однако Клод все это видел. Дверь была сколочена из досок из-под бочек, совершенно перегнивших, между которыми были такие широкие щели, что его взор хищной птицы без труда мог проникать в соседнюю комнату. Этот смуглый, широкоплечий священник, осужденный до сих пор на строгое, монастырское безбрачие, дрожал и кипел в виду этой ночной, страстной, любовной сцены. Молодая и красивая девушка, туалет которой был приведен в беспорядок предприимчивым молодым человеком, и которая вот-вот была готова отдаться ему, заставляла кровь кипеть в его жилах, точно расплавленный свинец. С ним происходило что-то необычайное. Взор его следил с какою-то похотливой ревностью за каждой вынутой булавкой, за каждым расстегнутым крючком. Если бы кто-либо мог увидеть в эту минуту лицо несчастного Клода, припавшее к щелям изъеденной червями двери, ему невольно пришел бы на ум тигр, смотрящий сквозь решетку клетки на шакала, пожирающего газель. Глаза его блестели, точно зажжённые свечи, сквозь щели двери.
Вдруг Феб быстрым движением руки, сорвал косынку с плеч цыганки. Бедная девушка, сидевшая бледная и задумчивая, как будто проснулась. Она быстрым движением отодвинулась от чересчур предприимчивого офицера, и, бросив взгляд на свои обнаженные плечи и грудь, покраснела, сконфузилась, онемев от стыда, старалась закрыть свою грудь красивыми руками своими. Если бы не яркий румянец, покрывавший ее щеки, то всякий, кто увидел бы ее в этом положении, немою и неподвижною, принял бы ее за статую стыдливости. Она продолжала держать глаза опущенными в землю.
Бесцеремонное движение капитана обнаружило таинственный талисман, висевший у нее на шее.
– Что это такое? – спросил он, воспользовавшись этим предлогом, чтобы снова приблизиться к красивому созданию, которое он только что всполошил.
– Не трогайте этого! – воскликнула она с живостью, – это мой талисман! Он поможет мне найти родителей моих, если я останусь достойна их. Ах, оставьте меня, г. капитан! Мать моя! Бедная моя мать! Мать моя! где ты? Приди ко мне на помощь! Ради Бога, господин Феб, возвратите мне мою косынку!
Феб отступил на несколько шагов и сказал холодным голосом:
– О, сударыня, теперь я отлично понимаю, что вы меня не любите!
– Я не люблю тебя?.. – воскликнула бедняжка, повиснув на шее капитана и усаживая его подле себя. – Я не люблю тебя, мой Феб! Ты это нарочно говоришь, злой человек, чтобы мучить меня! Ну, бери же меня всю! Делай со мною все, что хочешь! Я – твоя! Что мне за дело до талисмана моего! Что мне за дело до моей матери! Ты – моя мать, так как я люблю тебя! Феб, милый мой Феб, видишь ли ты меня? Это я, – гляди на меня. Я та самая девочка, которую ты не захотел оттолкнуть от себя, которая сама всюду бегала за тобой. Душа моя, моя жизнь, мое тело, я вся – все это принадлежит тебе, мой милый! Ну, хорошо, не нужно жениться, если это тебе не нравится. И что же я, в сущности? Жалкая уличная плясунья, между тем, как ты, Феб, – ты дворянин. И какая чушь пришла мне в голову! Плясунье – выйти замуж за офицера! Я, кажется, с ума сошла! Нет, Феб, нет, я буду твоей любовницей, твоей игрушкой, твоей забавой, если ты этого желаешь, девушкой, которая будет принадлежать тебе, только тебе! Я на то и создана! Пускай я буду обесчещенная, презренная, – мне все равно, лишь бы ты любил меня! Этого одного достаточно, чтобы сделать меня самою веселою и самою счастливою из женщин. А когда я постарею и подурнею, Феб, когда я буду уже недостойна любви вашей, господин мой, то вы, вероятно, не откажете мне в позволении прислуживать вам. Другие женщины будут вышивать вам шарфы, а я, служанка ваша, буду смотреть за ними. Вы позволите мне полировать ваши шпоры, чистить ваш мундир, смазывать ваши сапоги. Не правда ли, Феб, ты позволишь мне это? А покуда бери меня, Феб, я вся принадлежу тебе, только люби меня! Нам, цыганкам, только и нужны две вещи: вольный воздух и любовь!
И говоря таким образом, она обняла руками своими шею молодого офицера, она смотрела ему в глаза снизу вверх умоляющим взором своих прекрасных заплаканных глаз, и в то же время радостно улыбаясь, и ее нежная грудь терлась о сукно и о шитье его шитого мундира. Ее красивое полунагое тело извивалось на коленях его. Капитан, совершенно опьяненный, прильнул губами к ее красивому, смуглому плечу. Молодая девушка, устремив глаза в потолок и откинувшись назад, содрогалась под этими поцелуями.
Вдруг она увидела над головою Феба другую голову, бледное, позеленевшее от злости, судорожно искаженное лицо, с злобно-сверкавшими глазами, а возле этого лица она увидела руку, державшую кинжал. И лицо, и рука эта принадлежали Клоду. Он выломал дверь и очутился около влюбленной парочки. Молодая девушка, объятая ужасом, осталась неподвижною и немою при виде этого ужасного явления, точно голубка, поднявшая свою голову как раз в то время, когда коршун-ягнятник заглядывает в ее гнездо своими большими, круглыми глазами.
Она не имела даже сил вскрикнуть. Она увидела только, как кинжал опустился над Фебом и снова поднялся, дымясь.
– Проклятие! – вскрикнул капитан, падая на пол.
Она лишилась чувств. В ту минуту, когда глаза ее смежались, когда от нее отлетало сознание, ей показалось, будто что-то горячее прикоснулось к ее губам, и этот поцелуй обжег ее, точно клеймо палача.
Когда она пришла в себя, она увидела себя окруженной солдатами ночного дозора, из комнаты уносили капитана, обливавшегося кровью, священник исчез, окно в глубине комнаты, выходившее на реку, было открыто настежь, кто-то поднимал с полу плащ, предполагая, что он принадлежит офицеру, и она слышала, как вокруг нее говорили:
– Эта колдунья заколола кинжалом капитана!
Книга восьмая
I. Серебряная монета, превратившаяся в сухой лист
Гренгуар и весь цыганский табор находились в состоянии смертельного беспокойства. В течение целого месяца ничего неизвестно было ни о том, что сталось с Эсмеральдой, – и это обстоятельство очень огорчало цыганского старшину и его подчиненных – бродяг, ни о том, что сталось с козочкой, и это удваивало печаль Гренгуара. В один прекрасный вечер цыганка исчезла, и с тех пор она как в воду канула. Все поиски оставались тщетными. Некоторые, любившие дразнить народ, уличные мальчишки уверяли Гренгуара, что видели ее в тот вечер возле моста Сен-Мишель, в обществе какого-то офицера; но этот муж по цыганской моде был неверующий философ, и к тому же он знал лучше, чем кто-либо, до какой степени жена его была неприступна. Он собственным опытом успел убедиться в том, какую сильную твердыню составляли две соединенные добродетели – добродетель невинной девушки, подкрепленная еще чудесной силой талисмана, и он математически рассчитал комбинированную силу этих двух факторов. Следовательно, с этой стороны он был совершенно покоен.
Но за то тем труднее было для него объяснить себе исчезновение ее. Он был глубоко опечален; он даже в состоянии был бы похудеть от огорчения, если бы только для него была возможность еще более похудеть. Это огорчение заставило его забыть все на свете, даже свои литературные влечения, даже обширный труд свой: «О правильных и неправильных фигурах», который он рассчитывал напечатать при первых свободных деньгах (он просто бредил о книгопечатании с тех пор, как он видел «Дидаскалии» Гюго де-Сен-Виктора, напечатанные знаменитыми буквами Винделина Шпейерского).
Однажды, когда он проходил, погруженный в глубокую грусть, мимо здания уголовного судя, он увидел довольно значительную толпу, собравшуюся возле здания суда.
– Что тут такое происходит? – спросил он какого-то молодого человека, выходившего из суда.
– Не могу вам сказать, наверное, сударь, – ответил молодой человек. – Говорят, что судят какую-то женщину, убившую жандарма. Так как тут дело, по-видимому, не обошлось без чародейства, то к участию в рассмотрении его приглашены также епископ и консисторские судьи, и брат мой, состоящий архидиаконом при соборе Богоматери, проводит в суде «целые дни. Мне нужно было переговорить с ним, но я не мог добраться до него сквозь густую толпу, наполняющую залу, что для меня крайне досадно, ибо мне дозарезу нужны деньги.
– Я с удовольствием ссудил бы вам деньги, сударь, – сказал Гренгуар, – но, к сожалению, если карманы мои дырявы, то они продырявились отнюдь не от денег.
Он не решился сказать молодому человеку, что он знаком с его братом-архидиаконом, к которому он не приходил после известной уже читателям сцены в церкви, и это обстоятельство очень смущало его.
Молодой человек пошел своей дорогой, а Гренгуар последовал вслед за толпой, которая поднималась по лестнице, ведущей в большой зал суда. Он находил, что для того, чтобы рассеять печаль, нет ничего лучшего, как слушание какого-нибудь уголовного дела, так как судьи бывают обыкновенно замечательно глупы и смешны. Толпа, к которой он присоединился, подвигалась вперед молча, слегка проталкиваясь. После долгого и скучного топтания в темном коридоре, извивавшемся, точно змея, по всему старому зданию, он добрался, наконец, до низкой двери, выходившей в большую залу. Так как дверь была отворена, то он, благодаря своему высокому росту, мог рассмотреть через головы волновавшейся впереди него толпы то, что происходило в зале.
Это была обширная и темная комната и, вследствие этой темноты, казалась еще более обширною. День клонился уже к вечеру; сквозь узкие, стрельчатые окна в нее проникали лишь слабые лучи света, да и те терялись, прежде чем достигнуть свода, т. е. громадной решетки из резного дерева, разнообразные фигуры которого, казалось, шевелились во тьме. На столах кое-где зажжены были свечи, освещавшие головы секретарей, нагнувшихся над связками бумаг. Ближайшая к двери часть комнаты занята была публикой; вдоль правой и левой стены сидели какие-то люди, облеченные в длинные мантии; в глубине, на возвышении, сидели судьи в несколько рядов, последние из которых терялись в потемках; лица судей были строги и неподвижны. Стены были усеяны бесчисленными цветами лилий. Над головами судей с трудом можно было различить большое распятие, и по всей комнате блистали здесь и там алебарды и копья, на железных наконечниках которых отражались горевшие в зале свечи.
– Милостивый государь, – спросил Гренгуар у одного из своих соседей, – скажите мне, пожалуйста, что это за люди сидят там рядком, точно епископы в церковном соборе?
– А это, сударь, – ответил тот, – направо – члены суда, а налево – следователи; первые – в красных мантиях, а последние – в черных.
– А это что за толстяк в красной мантии, обливающийся потом? – продолжал допрашивать Гренгуар.
– Это сам господин председатель.
– А эти бараны, что сидят позади него? – спросил Гренгуар, который, как мы уже говорили, недолюбливал судейских, что происходило, быть может, вследствие того, что он до сих пор никак еще не мог забыть неудачи, постигшей его драматическое произведение в этой самой зале суда.
– Это господа докладчики королевской канцелярии.
– А тот боров, что сидит впереди всех?
– Это господин секретарь парламентского суда.
– А тот толстый, черный кот, налево?
– Это Жак Шармолю, королевский, прокурор при консисторском суде, вместе с членами этого суда.
– А скажите, пожалуйста, сударь, – сказал Гренгуар, – что же они все здесь делают?
– Они судят.
– Судят?.. Кого? Я не вижу никакого подсудимого.
– Не подсудимого, а подсудимую. Вы не можете ее разглядеть отсюда, потому что она сидит, обратившись к нам спиною, и к тому же ее не видать из-за толпы. Она вон там, посреди этой группы бердышей.
– А кто же эта женщина? – продолжал Гренгуар. – Как ее имя?
– Не могу вам сказать, сударь, – я сам только что пришел. Но я предполагаю, что здесь дело идет о чародействе, потому что в процессе участвуют и члены духовного суда.
– Хорошо, – проговорил наш философ, – посмотрим, как все эти великомудрые люди будут жрать человеческое мясо. И это зрелище, не лишенное интереса…
– Милостивый государь, – обратился к нему его сосед, – не находите ли вы, что у господина Жака Шармолю очень кроткий вид?
– Гм, гм! – ответил Гренгуар, – я вообще не особенно полагаюсь на кротость тех людей, у которых такие тонкие губы и такие ущемлённые ноздри, как у господина Шармолю.
Но тут соседи шиканьем пригласили обоих болтунов замолчать; в суде давалось важное показание.
Господа судьи, – говорила стоявшая посреди зала старуха, лицо которой до того было закрыто ее одеждой, что ее легко можно было бы принять за ходячий порох лоскутьев, – это настолько верно, насколько верно то, что я вдова Фалурдель, живущая уже целых сорок лет на мосту Сен-Мишель и аккуратно выплачивающая налоги, подати и пошлины. Квартира моя находится как раз против дома красильщика Тассен Кальяра, стоящего немного повыше моста. Тейерья, господа судьи, бедная старуха, но когда-то я была красивой девушкой. Итак, соседки мои говорили мне в течение нескольких дней: «Смотрите, бабушка Фалурдель, не вертите слишком много вашей прялкой по вечерам; ведь черт любит расчесывать рогами своими пряжу старух. Достоверно известно, что бука, бродивший в прошлом году в Тампльском предместье, теперь перебрался к старому городу. Берегитесь, бабушка Фалурдель, как бы он не постучался в вашу дверь!» Вот, однажды вечером, я сижу за прялкой, как вдруг кто-то постучался в дверь. Я спросила: «кто там?» – мне ответили ругательствами. Я отворяю дверь; входят каких-то два человека. Один – красивый офицер, другой – весь укутанный в черное, так что видны были только его черные глаза, сверкавшие, как горячие уголья; все остальное было у него прикрыто шляпой и плащом. Вот они и говорят мне: «Пусти нас в комнату Марты». – Под этим именем, господа судьи, среди моих знакомых известна была комната в верхнем этаже моей квартиры, самая чистая моя комната, господа судьи. – И с этими словами они дают мне экю. Я спрятала монету в ящик стола, сказав сама себе: – «Хорошо, это пригодится мне на то, чтобы завтра купить требухи на Глориетской бойне». – Мы поднялись вверх. Как только мы пришли в верхнюю комнату, не успела я повернуться, как черный человек вдруг куда-то исчез. Это меня несколько удивило. Офицер, красавчик и, по всем видимостям, знатный барин, спускается вместе со мною вниз и уходит из моей квартиры. Не успела я смотать четверть тальки, как он снова вернулся с красивой молодой девушкой, настоящей куколкой, которая была бы краше солнца, если бы только волосы ее не были так растрепаны. За нею шел козел, громадный козел, черный или белый, теперь уже не помню хорошенько. Этот козел заставил меня задуматься. Девушка – это не мое дело, но причем тут козел? Нужно вам сказать, гг. судьи, что я не люблю этих бородатых и рогатых животных; бородою своею они напоминают мужчин, а рогами – чертей. Однако я ничего не сказала: ведь мне же заплатили целый экю. Ведь правильно я рассудила не так ли, гг. судьи? Офицер и молодая девушка поднялись наверх и остались там одни, т. е. не считая козла, который полез за ними. Проводив их в верхнюю светелку, я снова спустилась вниз и принялась прясть. – Нужно вам сказать, что квартира моя состоит из двух этажей и что задний фасад ее выходит на реку, как и в других, построенных на мосту, домах; и в верхнем, и в нижнем этажах окна открываются не на мост, а на реку. – Итак, я продолжала себе спокойно прясть. Но сама не знаю почему, у меня из головы не выходил бука, о котором я вспомнила при виде козла, да и к тому же та молодая девушка была одета как-то необычайным образом. Вдруг я услышала наверху крик, и что-то тяжелое грохнулось на пол, и окно распахнулось. Я подбежала к моему окну, приходящемуся как раз под верхним, и вижу, как перед глазами моими промелькнуло что-то черное, бултыхнувшееся в воду. Это было какое-то привидение, одетое в костюм священника. В ту ночь светила луна, и потому я отлично могла разглядеть это. Привидение это, достигнув реки, поплыло по направлению к Старому городу. Тогда, вся дрожа от страха, я принялась звать ночной дозор. Дозорные, действительно, входят в мою квартиру, и прежде всего, не разобрав, в чем дело, – к тому же они были подвыпивши, – принялись колотить меня. Я стала объяснять им, что случилось, мы поднимаемся наверх, – и что же мы видим? Весь пол комнаты залит кровью, капитан лежит врастяжку с кинжалом в горле, девушка притворилась мертвой, а козел мечется из угла в угол. – Вот тебе раз! – подумала я. – теперь мне целых две недели придется мыть и скрести пол! – Нечего сказать, приятный сюрприз! Офицера унесли – бедный молодой человек! – а девку, обнаженную чуть не до пояса, стража увела с собою. – Но подождите! Это еще не все, самое худшее еще впереди! На следующее утро, когда я открыла ящик стола, чтобы взять оттуда монету, я вместо нее нашла лишь – сухой лист!
Старуха замолчала; ропот ужаса пробежал среди публики.
– Этот призрак, этот козел, – все это отзывается чертовщиной! – проговорил сосед Гренгуара.
– А этот сухой лист! – прибавил стоявший подле них человек.
– Не подлежит ни малейшему сомнению, – вставил свое слово третий, – что это ведьма, связавшаяся с самим дьяволом, в тех видах, чтоб обирать молодых офицеров!
Сам Гренгуар недалек был от того, чтобы находить все это весьма правдоподобным и весьма странным.
– Свидетельница Фалурдель, – проговорил председатель с важным видом, – вы ничего более не имеете сообщить суду?
– Нет, г. судья, – ответила старуха, – кроме разве того, что в составленном по поводу этого случая протоколе квартира моя названа безобразной и вонючей берлогой. Это слишком сильно сказано. Оно, правда, – дома на мосту не особенно нарядны и они кишат народом; однако же, в них живут мясники, народ богатый, а жены их не уступят любой городской барыне.
Судья, напомнивший Гренгуару своею наружностью крокодила, встал и проговорил:
– Прошу внимания! Приглашаю господ судей не упускать из виду, что у подсудимой найден был кинжал. Свидетельница Фалурдель, принесли ли вы с собою тот сухой лист, в который превратилась монета, данная вам тем дьяволом?
– Да, г. прокурор, – ответила старуха, – я отыскала ее. Вот она!
Один из приставов передал сухой лист крокодилу, который, нахмурившись и покачав головой, передал его председателю, а тот препроводил его королевскому прокурору по церковным делам, и таким образом лист этот обошел всю залу.
– Это березовый лист, – сказал Жак Шармолю. – Новое доказательство чародейства…
– Свидетельница! – заговорил один из судей, – вы говорите, что к вам одновременно вошли два человека: тот черный, который сначала куда-то исчез и которого вы затем видели плывшим по Сене, в священнической рясе, и офицер. Который из них дал вам монету?
Старуха с минуту подумала и затем ответила:
– Офицер!
В публике пробежал ропот.
– Ну, это начинает несколько колебать мое убеждение, – подумал Гренгуар.
Но тут снова заговорил Филипп Бёлье, королевский прокурор:
– Я позволяю себе напомнить господам судьям, что в показании своем, данном на смертном одре и буквально записанном с его слов, смертельно раненый и с тех пор умерший офицер объявил, что когда с ним заговорил одетый в черное человек, ему смутно представилось, что, быть может, это дьявол, и прибавил, что призрак этот очень настаивал на том, чтоб он привел подсудимую к вдове Фалурдель, и что когда капитан заметил ему, что у него нет денег, человек этот дал ему серебряный экю, которым офицер и заплатил за комнату. Из всего этого очевидно, что монета эта была адского происхождения.
Этот логический вывод, по-видимому, рассеял все сомнения Гренгуара и других скептиков среди публики.
– Впрочем, у гг. судей находятся под руками все документы, относящиеся к делу, – прибавил королевский прокурор, – и они могут сами справиться в них относительно заявления Феба де-Шатопера.
При этом имени подсудимая встала. Лицо ее стало видно из-за толпы. Гренгуар обомлел от ужаса, узнав в ней Эсмеральду.
Лицо ее было покрыто смертельной бледностью. Волоса ее, когда-то столь тщательно сплетенные в косы и убранные золотыми монетами, в беспорядке падали на плечи; губы ее посинели; впалые глаза ее дико блуждали.
– Феб! – воскликнула она, озираясь кругом. – О, господа судьи, прежде чем убить меня, скажите мне, ради самого Господа Бога, жив ли он?

